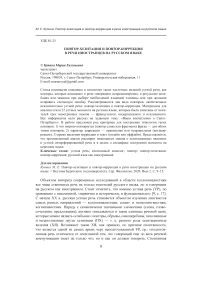Повтор-хезитация и повтор-коррекция в речи иностранцев на русском языке
Автор: Купина М. Е.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена описанию и типологии таких частотных явлений устной речи, как повторы, которые возникают в речи говорящего непреднамеренно, в результате колебания или заминки при выборе необходимой языковой единицы или при желании исправить сделанную ошибку. Рассматриваются два вида повторов, свойственных исключительно устной речи: повтор-хезитация и повтор-коррекция. Материалом для анализа стали 22 устных монолога на русском языке, которые были записаны от носителей трех иностранных языков - французского, нидерландского и итальянского. Все информанты вели рассказ на заданную тему: «Ваши впечатления о Санкт-Петербурге». В работе предложен ряд критериев для построения типологии таких повторов: 1) что именно повторяется (повтор слова или фрагмента фразы - для обоих типов повторов; 2) характер коррекции - правильная или неправильная (антикоррекция); 3) время введения коррекции в текст (онлайн или оффлайн). Представляется, что произведенный анализ расширит имеющиеся знания о хезитационных явлениях в устной интерферированной речи и в целом о специфике построения монолога на неродном языке.
Устная речь, спонтанный монолог, повтор, повтор-хезитация, повтор-коррекция, русский язык как иностранный
Короткий адрес: https://sciup.org/148317742
IDR: 148317742 | УДК: 81-25
Текст научной статьи Повтор-хезитация и повтор-коррекция в речи иностранцев на русском языке
Купина М. Е. Повтор-хезитация и повтор-коррекция в речи иностранцев на русском языке // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 2. С. 9–15.
Объектом интереса современных исследований в области коллоквиалистики все чаще становится речь не только носителей русского языка, но и говорящих на русском как иностранном. Стоит отметить, что именно устная речь (УР), по сравнению с письменной, «первична и исторически, и функционально» [9, с. 17]. С начала XX в. русская устная речь становится объектом изучения лингвистов самых разных направлений — коллоквиалистики, социо- и психолингвистики, когнитивистики. Наряду с семантически значимыми элементами (слова, словосочетания, предложения), активно описываются и такие единицы речевой цепи, которые можно назвать «слабыми»: повторы, обрывы, самоперебивы, заполненные и незаполненные паузы хезитации (ПХ) — т. е. разного рода хезитационные явления (ХЯ). Возникают такие ХЯ, как правило, по причине спонтанности, что является одной из самых ярких черт неподготовленной УР, ср.: «подготовленная речь отличается от спонтанной тем, что говорящий еще до акта речевой коммуникации знает не только что, но и как он должен говорить. Спонтанная речь порождается в момент коммуникации, ее форма не готовится заранее» [3, с. 258–259]. При этом именно паузы хезитации представляют собой «характернейшую особенность спонтанной устной речи (как непринужденной, разговорной, так и более официальной), отражающую ее сиюминутность, творческий характер» [19, с. 144].
Конкретным объектом анализа в настоящей работе стала русская интерферированная речь носителей других языков. Под интерферированной понимается речь, содержащая в себе признаки иноязычного акцента. На материале устной спонтанной речи такие исследования стали уже довольно активными [13; 10; 17; 8; 20 и др.].
Материалом для анализа стали 22 спонтанных монолога на русском языке на тему «Мои впечатления о Санкт-Петербурге», записанные от носителей трех языков: французского, нидерландского и итальянского*. Монологическая речь представляет собой гораздо более сложную структуру, чем диалогическая. Для построения монолога требуется не только специальная подготовка и хорошее знание лексики и грамматики (в особенности иностранного языка), но и умение последовательно выстроить высказывание, соблюдая все нормы языка. Диалогическая речь, в свою очередь, может не требовать от говорящего особых усилий и протекать, например, в вопросно-ответной форме. Более того, активность собеседника, по мнению О. Б. Сиротининой, часто мешает говорящему составить манеру своего речевого высказывания [16, с. 307]. Именно поэтому для анализа были взяты свободные монологи-рассказы на заданную тему. Все информанты были подобраны с учетом степени владения русским языком — не ниже уровня В1, согласно Российской государственной системе тестирования иностранных граждан [].
Как уже было сказано, повтор — это одно из самых частых хезитационных явлений устной речи. В «Полном словаре лингвистических терминов» под повтором понимается «повторение языковых единиц (звуков, морфем, слов, синтаксических конструкций) в речевом ряду, основной целью которого является усиление выразительности [12, с. 316–317] — и это не имеет никакого отношения ни к хезитации, ни к коррекции. Авторы «Фонетики спонтанной речи» под повторами понимают «внутрифразовые абсолютные лексические повторы, функционально неоднородные, обусловленные устным характером речепроизводства» [19, с. 172]. Такие повторы являются элементом исключительно устной формы языка, именно они и стали объектом внимания в настоящем исследовании.
Существует несколько классификаций повторов, построенных на разных основаниях. В работе «Фонетика спонтанной речи» классификация построена на основе функции, выполняемой повтором в речи: повтор-хезитация (П-Х), повтор-подчеркивание, или актуализатор (ПА), повтор-пауза (ПП) и разнонаправленный повтор-связка (ПС) [19]. В нашем исследовании описываются повторы первого типа — П-Х, а также повторы-коррекции (анализ материала показал к тому же, что часто эти типы пересекаются), которые не выделялись петербургскими лингвистами, поскольку их исследование строилось на русской речи носителей языка, в которой ошибок (и, соответственно, нужды в коррекции) существенно меньше,чемврусскойречинерусских.Имеетсярядработпооговоркамврусскойречи носителей языка, когда исправление оговорки часто осуществляется именно путем повтора [5; 6; 7]. Ошибкам в русской речи русских посвящена и монография М. В. Русаковой [15].
По мнению Н. Е. Быковой, повторы-хезитации избыточны с коммуникативной точки зрения, но необходимы для создания прагматической установки [4]. Автор отмечает, что это так называемые «островки», которые позволяют говорящему отдохнуть или выбрать прием для поддержания общения. Часто при П-Х происходит ослабление просодических характеристик, что, впрочем, ждет еще своего исследования и экспериментального подтверждения.
Анализ повторов строится нами с учетом нескольких параметров. Во-первых, учитывается степень полноты повторяемой единицы. Об этом критерии пишет А. А. Белицкая, выделяя частичный повтор (я хотела ла ), полный повтор (он купил купил новый блокнот) и повтор словосочетания (это было на летних каникулах на летних каникулах в деревне) [1]. В нашем материале встретились только полные повторы слова/словоформы или фрагмента фразы.
Другим параметром описания повтора стало наличие или отсутствие коррекции при повторе единицы: возможен повтор без коррекции в примерах (1)–(2) или повтор с коррекцией (3) (в атрибуции каждого примера указаны гендер, возраст и родной язык информанта).
-
1) уже се... шесть / ну шесть лет назад я сюда ездила (э-э) и поэтому это не был мой первый раз (жен., 23 г., ит.);
-
2) потому что это(:) *П (э-м) много(:) *П (м-м) красивие *П красивие здании(:) и (м-м) тоже Эрмитаж тоже *С много му-зе-ев (э-м) (а-м) всё *C (муж., 25 л., фр.);
-
3) ( а-а-а) семья /у которой // [ты живешь] // да я живю живу (а-а) // они очень быстро говорили по-русски мне было трудно чтобы понимать (аа) что их сказали и (а-а) / да что ещё *П (у-у) (жен., 24 г., нид.) ** .
Пример (1) иллюстрирует полный повтор слова, который в данном контексте возникает из-за того, что информант припоминает какие-то подробности, необходимые для полноты рассказа. Это становится понятно из самой реплики говорящего: он начал фразу, усомнился в правильности начатого слова и оборвал его ( се... ), затем последовало исправление неточной (по его мнению) информации и подтверждающий повтор: шесть / ну шесть . Это реакция не на языковую, а на фактологическую ошибку. Любопытно отметить наличие частицы ну перед повтором, которая в какой-то степени «оправдывает» само его существование: говорящий совершил автокоррекцию ( се… → шесть ), но продолжил сомневаться (хезитиро-вать), о чем свидетельствует пауза после исправления; наконец, принимает решение оставить поправку и вводит повтор с частицей ну ( шесть /ну шесть ), которую в данном случае можно отнести к « ну “выбора”», по классификации А. Д. Шмелева (21). Говорящий словно бы сообщает: ‘я не уверен, что именно шесть , но пусть будет шесть ’. Видно, как много информации о работе механизма порождения речи открывает только одно повторенное слово. И видно, как легко пересекаются два рассматриваемых типа повтора: коррекция в нашей речи действительно часто сопровождается хезитацией.
Контекст (2) тоже содержит полный повтор слова без коррекции, однако обусловлен он другими причинами. Вероятнее всего, информант не смог исправить ошибку, хотя очевидно, что заметил ее: об этом свидетельствуют и пауза ( *П ), и сам повтор: красивие *П красивие . Хезитация снова соседствует с попыткой коррекции, пусть и неудачной.
В примере (3) представлен полный повтор с коррекцией: говорящий неправильно произнес форму слова, заметил и сразу же исправил ее: живю живу . Такая фонетическая ошибка, вероятнее всего, обусловлена обычными проблемами межъязыковой интерференции (напомним, что предметом анализа является именно интерферированная устная речь).
В примерах (4)–(5) также представлены многочисленные полные повторы — слов и фрагмента текста:
-
4) Петербург это город крупный город // [скажите что вам нравится тут больше всего] // архитектура конечно конечно (э-э-э) (муж., 66 л. * , нид.) ;
-
5) я вижу особенно разница разницу [а] / но(:) когда я узнаю человека пото(:)м *П человека потом [б] / это(:) *П легче легче [в] (муж., 45 л., ит.).
В контексте (4) перед нами типичный повтор-хезитация без всякой коррекции ( конечно конечно ), «поддержанный» следующей продолжительной вокализацией ( э-э-э ): говорящий с трудом (с помощью собеседника) построил фразу и просто не знает, что говорить дальше.
Пример (5) иллюстрирует сразу три повтора: один с коррекцией грамматической ошибки [а] ( разница разницу ) и два без коррекции, чисто хезитационных: человека пото(:)м *П человека потом [б] и легче легче [в]. Оба последних повтора сопровождаются и другими ХЯ: растяжками звуков и физическими ПХ, что свидетельствует о больших затруднениях говорящего в построении свободного рассказа (даже и на весьма знакомую и несложную тему).
Важно еще отметить, что коррекция в примерах (3) ( живю живу ) и (5) ( разница разницу ) осуществлена правильно. То же видим и в контексте (6), где повторяется целое словосочетание:
-
6) ( а-а-а) владелец моего дома владельцу моего дома (э-э) 25 лет и он часто приглашает друзей // этот (а-а-а) хороший (а-а-а) способ общаться с ними тоже на русском (муж., 22 г., нид.).
Примечательно, что во всех трех контекстах (4)–(6) коррекция произведена мгновенно (онлайн), что говорит о хорошем «контроле качества речи» со стороны говорящего: он замечает сделанную ошибку и стремится тут же ее исправить (подробнее об этом аспекте описания повторов будет сказано ниже). Иногда, впрочем, произвести правильную коррекцию говорящему так и не удается, ср.:
-
7) а здесь борщ только в ресторане // даже в столовой борщ / борща / бо́рща нет (жен., 23 г., ит.).
В примере (7) мы видим двойной полный повтор слова: сначала с правильной коррекцией (борща), а затем с неправильной (борща). Это пример так называемой антикоррекции — исправления верного элемента речевой цепи на неверный. В материале встретились и другие примеры такого типа:
-
8) конечно мы были в Русском музее очень много раз… разов [а] // но (а-а) пер… первые [б] два раза были интересные интересно [в] но / потом стало меньше меньше меньше [г] интересно потому что мы бы… мы были [д] там уже много разов уже [е] (муж., 20 л., нид.).
Контекст (8) примечателен многочисленными повторами разного типа. Случаи [а] и [в] демонстрируют упомянутую антикоррекцию, [б], [д] и [е] — чистую хезитацию (информант говорит и одновременно обдумывает, чтó сказать дальше), а в случае [г] можно, думается, говорить о повторе как стилистическом приеме, который подчеркивает интенсификацию признака ( меньше меньше меньше ) и не имеет никакого отношения ни к хезитациям, ни вообще к особенностям спонтанной речи. Скорее, здесь можно говорить о хорошем владении говорящим русским языком и его желании говорить красиво и выразительно.
Случаи антикоррекции в этом контексте слегка различаются между собой. Повтор [а] совершен с обрывом первой (правильной) попытки произнести форму слова ( раз… разов ). В выбранном варианте говорящий настолько уверен, что именно его он повторяет в конце фразы еще раз: мы были там уже много разов .
Повтор [в] демонстрирует попытку информанта произнести правильное высказывание первые два раза было интересно , но ошибка в глагольной форме ( были вм. было ) вынудила говорящего «подстроить» под нее и следующую форму — были интересные . Но он тут же почувствовал некоторую стилистическую «корявость» получившейся фразы ( первые два раза были интересные ) — и мгновенно (снова онлайн) исправил последнюю форму, что и создало эффект антикоррекции ( были интересно ). Видно, впрочем, что говорящий следит за своей речью и всячески старается сделать ее более правильной.
Еще одним интересным явлением при повторе с коррекцией является частичное исправление ошибки. В примере (9 [а]) говорящий попробовал (неудачно) исправить грамматическую ошибку, а на фонетическую даже не обратил внимания:
-
9) (э-эм) я не(:) (а-а) ещё (а-а) попроваю *П попровала [а] (э-э) русская кухня русскую кухню [б] / *С может быть потом *С (жен., 26 л., фр.)
Повтор [б] в этом контексте демонстрирует обычную грамматическую коррекцию без всякой хезитации.
Повтор с коррекцией можно рассматривать еще с точки зрения того, как быстро была произведена коррекция. О двух типах самоисправлений в спонтанной речи пишут В. И. Подлесская и А. А. Кибрик: «^мы различаем два основных режима самоисправлений — онлайн коррекцию, или собственно коррекцию, и ретроспективную коррекцию, или редактирование» [14, с. 4]. Разница состоит в том, что в онлайн режиме говорящий исправляется немедленно: он останавливает поток речи и исправляет ошибку. Такой тип исправления почти всегда сопровождается обрывом. Ретроспективная (или оффлайн) коррекция производится после того, как речевой фрагмент уже произнесен. Несколько примеров онлайн коррекции были приведены выше, приведем еще ряд подобных иллюстраций:
-
10) я думаю *П здесь *П очень удобный транспорт *П удобные транспорти [а] / и такси здесь очень дешевли / в Италии такси очень-очень дороги дорогие [б] (жен., 24 г., ит.) .
-
11) я чувствую себя очень *П без… / (эм-м) как сказать по-русски извини ээ / безопа… в безопасности / я чувствую себя в безопасности да (жен., 23 г., ит.) .
В контексте (10) говорящий дважды производит онлайн коррекцию: первый раз [а] он исправляет неверное (на его взгляд) словосочетание (пример антикоррекции) лишь после небольшого колебания ( *П ). Во второй раз [б] коррекция правильная и мгновенная.
Пример (11) иллюстрирует ретроспективный вариант исправления: говорящий обрывает слово, в его речи появляются ХЯ (пауза, неречевые звуки), затем снова обрыв, верное произнесение и, наконец, встраивание правильной речевой единицы в реплику, с повтором целого предложения. Здесь же встречается характерная для спонтанной русской речи нерусских метакоммуникативная единица как сказать по-русски , сопровождаемая извинением, что в целом свидетельствует о затруднениях информанта при построении рассказа (о метакоммуникации в речи на неродном языке говорится, например, в работе К. Д. Зайдеса [8]).
Таким образом, повтор-хезитация и повтор-коррекция представляют собой два разных, но связанных между собой и одинаково частотных явления в спонтанной речи иностранцев на русском языке. Эти повторы можно признать неотъемлемой характеристикой такого жанра устной речи, как свободный рассказ-монолог на заданную тему. Любопытно в дальнейшем описать подобные повторы с учетом метаданных информантов (пол, уровень владения русским языком, родной язык, психотип), что может стать перспективной темой будущего исследования.
Список литературы Повтор-хезитация и повтор-коррекция в речи иностранцев на русском языке
- Белицкая А. А. О роли хезитационных пауз в спонтанной речи // Филология и литературоведение. 2014. № 2 (29). С. 3-10.
- Богданова-Бегларян Н. В., Блинова О. В., Зайдес К. Д., Шерстинова Т. Ю. Корпус "Сбалансированная аннотированная текстотека" (САТ): изучение специфики русской монологической речи // Труды Ин-та рус. яз. им. В. В. Виноградова. Вып. 21: Национальный корпус русского языка: исследования и разработки / гл. ред. А. М. Молдован.; отв. ред. выпуска В. А. Плунгян. М., 2019. С. 111-126.
- Бондарко Л. В. Фонетика современного русского языка. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. 276 с.
- Быкова Н. Е. Речевые и письменные коммуникации. Лекция 15: Адаптивные процессы в современной спонтанной речи [Электронный ресурс]. URL: https://sites. google.com/site/pivoninaspb/ (2020) (дата обращения: 10.08.2020).
- Завадская Ю. О. Оговорки как явление устной спонтанной речи: основные аспекты анализа // Коммуникативные исследования. 2018. № 2 (16). С. 37-51.