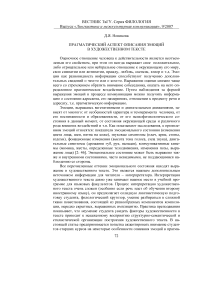Прагматический аспект описания эмоций в художественном тексте
Автор: Новикова Дина Яковлевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120484
IDR: 146120484
Текст статьи Прагматический аспект описания эмоций в художественном тексте
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПИСАНИЯ ЭМОЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Оценочное отношение человека к действительности является неотъемлемым его свойством, при этом он всегда выражает свое положительное, либо отрицательное или нейтральное отношение к окружающему его миру, свои симпатии или антипатии, вражду, любовь, скепсис, юмор и т.д. Эмоции как разновидность информации способствуют получению дополнительных сведений о чем-то или о ком-то. Выражение оценки связано чаще всего со стремлением обратить внимание собеседника, оказать на него определенное прагматическое воздействие. Путем наблюдения за формой выражения эмоций в процессе коммуникации можно получить информацию о состоянии адресанта, его намерениях, отношении к предмету речи и адресату, т.е. прагматическую информацию.
Эмоции, выражаясь вегетативными и двигательными движениями, зависят от многого: от особенностей характера и темперамента человека, от его воспитанности и образованности, от его психофизиологического состояния в данный момент, от состояния окружающей среды и различного рода внешних воздействий и т.п. Как показывают исследования, к проявлениям эмоций относятся: показатели эмоционального состояния (изменения цвета лица, шеи, пятна на коже), звуковые симптомы (плач, крик, стоны, вздохи), фонационные изменения (высота тона голоса, сила звука), двигательные симптомы (дрожание губ, рук, пальцев), коммуникативные кинемы (мимика, жесты, определенные телодвижения, изменения позы, выражение лица) [2: 46]. Эмоциональное состояние может быть выражено также и внутренними состояниями, часто невидимыми, не поддающимися наблюдению со стороны.
Все перечисленные оттенки эмоционального состояния находят выражение в художественном тексте. Это является важным дополнительным источником информации для читателя – интерпретатора. Интерпретация художественного текста давно уже занимает важное место в учебной программе для языковых факультетов. Процесс интерпретации художественного текста очень сложен (особенно если речь идет об обучении второму иностранному языку), он предполагает солидную лингвистическую подготовку студента, филологический кругозор, умение разбираться в сложной ткани повествования, состоящей из разнообразных компонентов композиции, нередко скрытных, выраженных имплицитно. Практика преподавания показывает, что неумение студента увидеть факторы художественности в тексте приводит к искаженному восприятию структурно-семантической и стилистической организации построения художественного текста. В настоящей статье предпринимается попытка акцентировать внимание студентов старших курсов на некоторые особенности описания эмоций в прагма- тическом аспекте в романах Фр. Дюрренматта «Der Richter und sein Henker» и «Der Verdacht».
В зависимости от того, содержатся ли в назывании эмоции прямое указание на ту или иную степень эмоционального состояния персонажа, можно говорить об эксплицитном (прямом) или имплицитном (косвенном) описании эмоций в художественном тексте [3: 240]. К эксплицитным средствам можно отнести лексические или фразеологические единицы, в состав которых входит прямое указание на ту или иную эмоцию: ein trotziges Ge-sicht machen, mit großer Gleichgültigkeit sprechen, sein Gesicht verzog sich zu einer grinsenden Grimasse, rot vor Ärger werden, etwas verdutzt betrachten, es gärt in ihm, weiß vor heimlichem Entsetzen werden, kalter Schweiß brach aus seinen Poren. Дюрренматт не скупится в своем романе на яркие и меткие языковые средства, чтобы показать эмоциональное состояние своих героев в тот или иной момент.
К имплицитным языковым описаниям эмоций относятся лексические и фразеологические единицы, в состав которых входит косвенное указание на эмоцию, испытываемую субъектом. Чаще всего интерпретация эмоционального состояния в данном случае опирается на контекст художественного произведения: Bärlach schloß die Türe und setzte sich in seinen Lehnstuhl dem Schreibtisch gegenüber. Schweigend sah er nach dem andern hin, der ruhig in Schmieds Mappe weiter blätterte, eine fast bäurische Gestalt, ruhig und ver-schlossen, tiefliegende Augen im knochigen, aber runden Gesicht mit kurzem Haar. Только контекст может показать, в каком напряжении находятся комиссар Бэрлах и преступник Гастман, нахально проникший в дом следователя. Эта встреча произошла через двадцать лет после их знакомства. Все эти годы Бэрлах, «как кот за мышью», «охотился» на Гастмана. И вот он здесь, в его доме, невозмутимый и циничный. Несмотря на обстоятельственные наречия schweigend, ruhig, verschlossen читатель понимает, что оба готовы наброситься друг на друга и растерзать друг друга. Прагматика текста органически связана со всеми другими его аспектами, категориями и типами текстовой информации. Она во многом влияет на характер языкового оформления текста, непосредственно связана с семантическими категориями информативности, с подтекстовой и контекстуальной информацией. Особый интерес среди всех видов информации представляет собой подтекстовая информация, которая извлекается из содержательно-фактуальной информации благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и коннотативные значения [1: 94–95].
Как известно, слова по характеру своего значения способны не только нести предметную информацию, но и передавать эмоциональное состояние говорящего. Это находит свое выражение в выборе того или иного слова, которое указывает на настроение, чувства, переживания или на оценку и отношение к объекту речи. Как показал анализ, Дюрренматт отличается тем, что широко использует в своих романах глаголы говорения, которые представляют собой разнообразие структуры авторских ремарок к прямой речи персонажей и наиболее ярко характеризуют не только эмоциональное состояние героя в данный момент, но и отношение писателя к своим героям. Особый стилистический эффект возникает при этом, если автор использует не нейтральные verba dicendi, передающие значение говорения в самом общем виде типа sagen, fragen, antworten, а глаголы, уже имеющие в своей семантике экспрессивный компонент, например: звукоподражательные глаголы (zischen, brummen, keuchen, meckern, krächzen, seufzen, wetter-leuchten); глаголы, модифицирующие основное значение говорения в аспекте просодических или экспрессивно-эмоциональных коннотаций (schreien, anschreien, anherrschen, wettern, stöhnen); глаголы с наречиями с эмотивной семантикой ( ängstlich sagen, zögernd antworten, beunruhigt ant-worten, stutzend antworten, undurchdringlich antworten, neugierig fragen, ruhig fragen, mit der Antwort zögern, düster sagen, kaltblutig entgegnen, ein-geschüchtert zugeben). Глаголы последней лексико-семантической группы представляют собой чаще всего «сопроводительный повествовательноавторский комментарий» к прямой речи персонажей и передают «мимикожестикуляционную и ситуативно-предметную информацию».
Проследим зависимость выбора обозначения эмоций от установки автора (или повествователя) на достижение коммуникативнопрагматического эффекта. Рассмотрим пример, где описывается сцена встречи следователей Бэрлаха и Чанца с писателем, одним из персонажей романа. Чтобы показать, насколько неприятно встречаться и разговаривать писателю с полицейскими, автор использует специфические глаголы, которые эксплицитно выражают отношение писателя к представителям правосудия: «Was wollen Sie denn noch?» – fauchte endlich der Schriftsteller. Глагольная лексема звукоподражания fauchen (шипеть, фыркать) используется автором для образного представления о речи героя, которая связана с его эмоциональным состоянием и его отношением к полицейским (его недоверчивость к ним, скептицизм). Еще примеры: Die zwei sahen noch, wie sich das Gesicht des Schriftstellers zu einer grinsenden Grimasse verzog: « Sie wol-len mein Alibi?» или Der Schriftsteller stöhnte. Автор, передавая эмоциональное состояние персонажа, останавливает внимание читателя также на своей собственной оценке данного героя, на собственном отношении к нему. Например, описывая полицейского Чанса, убившего из-за зависти своего коллегу, Дюрренматт на протяжении всей книги употребляет лексику, которая характеризует Чанса как труса, карьериста, неумного криминалиста, злого и завистливого человека. Внутренне Чанц чувствует, что кара неминуемо настигнет его, он старается ловчить, но страх – его постоянный спутник. Ср. примеры из романа :
Da hatte er ein sonderbares und unheimliches Erlebnis , das ihn nachdenklich stimmte.
Da erkannte er, da es Bärlach war, doch wich seine Spannung nicht, sondern er wurde weiß vor heimlichem Entsetzen, о hne sich den Grund der Furcht Rechen-schaft geben zu können.
Der andere (Tschanz) zuckte zusammen, wie er hörte, dass ihn der Alte duzte.
Эмоционально окрашенные слова целенаправленно воздействуют на читателя. Тем самым художественный текст отражает прагматическую установку автора. В процессе передачи информации в художественном тексте происходит общение, сотрудничество автора и читателя. Это является определяющим условием адекватного восприятия всех типов информации художественного текста.
Описывая своего положительного героя – следователя Бэрлаха, Дюрренматт использует своеобразный арсенал языковых средств, которые подчеркивают эмотивно-оценочное отношение автора-повествователя к своему персонажу, и тем самым вызывает положительное отношение читателя к своему герою, симпатию, сочувствие и уважение. Бэрлах в романе – больной, пожилой человек, но он хороший криминалист, у него благородная цель – бороться с преступностью, доказать преступнику, что любое преступление наказуемо. Бэрлах спокоен, хладнокровен, находчив, умен, он грамотный следователь, знающий свое дело и хладнокровно идущий к цели. Выбор языковых средств красноречиво показывает это. Например:
«Das gebe ich zu, Tschanz», – sagte Bärlach, unbeweglich in das verzweifelte Gesicht des Jungen starrend, – « jahrelang hast du im Schatten dessen gestanden, der nun ermordet worden ist».
Der Alte reckte sich in seinem Stuhl, nun nicht mehr krank und zerfallen, son-dern mächtig und gelassen, das Bild einer übermenschlichen Ǜberlegenheit, ein Tiger, der mit seinem Opfer spielt.
Писатель сравнивает своего героя с тигром, который играет со своей жертвой, с глыбой, которая внушает спокойствие и мощь, с котом, который охотится на мышей. Посредством передачи эмоций наречиями ruhig, gelas-sen, kaltblutig, mächtig, unbeweglich дается описание непростого эмоционального состояния Бэрлаха, его внутренних переживаний. Речь идет об эмоциональной направленности всего художественного произведения. Посредством этих описаний Дюрренматт показывает свое положительное отношение к следователю Бэрлаху, и, наоборот, читатель видит и чувствует его неприязнь, антипатию к таким персонажам, как Чанц. Все произвдение пронизано мыслью о том, что любой преступник, как бы он ни объяснял свои преступления, какой бы философской оболочкой их ни покрывал (Гастман, Чанц), должен неминуемо понести наказание.
Итак, главная задача интерпретации художественного текста – научить читателя воспринимать языковое выражение текста во всех его экспрессивно-стилистических тонкостях, видеть и чувствовать текст. Обозначение эмоций не только участвует в передаче эмоциональной, оценочной информации, но и самым непосредственным образом влияет на создание конеч- ного прагматического эффекта художественного произведения, а именно, стимулирует воздействие автора на читателя, способствует приобщению его к мыслям, оценкам, убеждениям, эмоциональным переживаниям автора, вызывает у читателя образные ассоциации, стимулирующие его творческую активность в процессе восприятия текста.