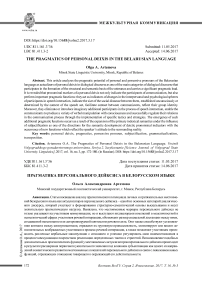Прагматика персонального дейксиса в белорусском языке
Автор: Артемова Ольга Александровна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу прагматического потенциала личных и притяжательных местоимений белорусского языка как актуализаторов персонального дейксиса - одной из основных категорий диалогического дискурса, который участвует в формировании структурно-семантической основы высказывания и несет значительную прагматическую нагрузку. Выявлено, что местоименные маркеры персонального дейксиса не только указывают на участников коммуникации, но и выступают индикаторами изменений в межличностной и психологической сферах участников речевой интеракции, обозначают размер социальной дистанции между ними, создаваемой неосознанно или детерминируемой контекстом речевого акта. Они также способствуют установлению контакта между коммуникантами, отражают их групповую принадлежность, элиминируют или вводят дополнительных воображаемых участников в процесс речевой интеракции, а также позволяют участникам производить различные вербальные манипуляции с сознанием и успешно регулировать свои взаимоотношения в процессе коммуникации посредством реализации определенных тактик и стратегий. Возникновение подобных дополнительных прагматических функций у местоименных актуализаторов персонального дейксиса происходит в результате расширения первичного указательного значения под влиянием субъективации как одного из направлений семантического развития местоименных показателей персонального дейксиса в связи с появлением новых функций, отражающих отношение говорящего к окружающей его действительности.
Персональный дейксис, прагматика, притяжательное местоимение, грамматикализация, транспозиция, субъективизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14970076
IDR: 14970076 | УДК: 811.161.3’36 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2017.3.17
Текст научной статьи Прагматика персонального дейксиса в белорусском языке
DOI:
Цитирование. Артемова О. А. Прагматика персонального дейксиса в белорусском языке // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2017. – Т. 16, № 3. – С. 172–180. – DOI:
Персональный дейксис является одной из основных категорий диалогического дискурса, поскольку дейктические маркеры лица не только участвуют в формировании структурной и семантической основы высказывания, но и несут значительную прагматическую нагрузку, воздействуя на поведение и сознание коммуникантов в процессе речевой интеракции. Целью нашего исследования стало выявление прагматических функций белорусских лексических актуализаторов персонального дейксиса в дискурсе. Материалом для изучения послужили примеры монологической и диалогической речи из белорусского подкорпуса Национального корпуса русского языка (НКРЯ) и интернет-ресурсов.
Основными маркерами персонального дейксиса в белорусском языке выступают личные местоимения. Они являются наиболее древними формами, участвующими в организации коммуникативной структуры высказывания и содержат в себе фундаментальные знания о предметном мире в виде триады «субъект речи – объект речи – предмет речи». Личные и притяжательные местоимения наряду с личными окончаниями глаголов выступают ядер-ными актуализаторами коммуникативно-прагматической категории персональности в белорусском языке и существуют в виде двух противопоставленных друг другу микросистем: указание на актуальных участников коммуникации – говорящего (1-е лицо: я , мы , мой , наш ), адресата (2-е лицо: ты , вы , твой , ваш ) и не участвующих в коммуникации лиц (3-е лицо: ён , яна , яны , яго , яе , іх , іхні ).
Категория 1-го лица, выражаемая местоимением я, по мнению С. Левинсона, есть грамматикализация ссылки говорящего на самого себя [Levinson, 1983, р. 62]. Несмотря на хорошую техническую оснащенность для ориентации в пространстве, человеку свойственно придерживаться определенных исходных прототипических ориентиров: «я» как центр личной сферы говорящего, «не-я» как весь остальной мир, поэтому я – естественный способ идентификации говорящего как участника речевого акта. В диалогическом дискурсе я может опускаться коммуникантами, что обусловлено:
-
1) этикетом, когда говорящий – исполнитель возложенной на него социальной функции: – Ø Абвяшчаю вас мужам і жонкай. Жывіце ў згодзе і шчасці сто гадоў (НКРЯ, I. Шамякiн. Петраград-Брэст);
-
2) нежеланием субъекта речи акцентировать свое я , то есть проявлять «яканье» или «эготизм») (подробно об этих явлениях см.: [Успенский, 2007, с. 27]). Для этого он целенаправленно заменяет я на мы или предпочитает высказывания с нулевым местоименным подлежащим: – Як ідзе праверка сёмага трэста? – спытаў Ігнатовіч у загадчыка аддзела. – Ø Працуем дзень і ноч, Герасім Пятровіч (НКРЯ, І. Шамякін. Атланты і ка-рыятыды);
-
3) необходимостью субъекта речи выразить свое личное мнение с использованием предикатов пропозициональной установки мер-каваць, лічыць : Лічу неабходным правесці самым паскораным чынам меры па вывазу ў тыл артылерыі і матэрыяльнай часткі (НКРЯ, I. Шамякiн. Петраград-Брэст) .
Местоимение мы обозначает два и более лица вместе с говорящим. От включения адресата в личностную сферу субъекта речи или исключения из нее зависят прагмасмыс-лы этого местоимения. В начале диалога мы инклюзивное выполняет контактоустанавливающую функцию ( мы фатическое) с вовлечением субъекта речи в личностную сферу слушающего ( Як у нас справы? ), последовательной реализацией эмпатии и стратегии позитивной вежливости, интимизации общения ( мы покровительственное) и выражения идеи солидарности в духе Принципа Кооперации
[Грайс, 1985]: – Як мы адчуваем сябе? – Добра, – нясмела адказала яна i ўсё яшчэ закрывала грудзi i хавала пад табурэт свае босыя ногi (НКРЯ, І. Шамякін. Сэрца на да-лоні). Такое мы характерно для медицинского дискурса, для дискурса сферы бытового обслуживания и речи родителей при общении с ребенком ( мы родительское): – Скажы, Лю-дачка, як цябе завуць, – папрасіла мама. – Не ўмееш? Не ўмеем, скажы, мы яшчэ га-варыць, зусім не ўмеем. Яшчэ нам толькі дзевяць месяцаў (НКРЯ, А. Кулакоўскі. Два-наццаты, жорсткі). Инклюзивная семантика мы позволяет адресату занять положение «на равных» с субъектом речи через объединение и уравнивание «я» и «вы» и показать свою принадлежность к группе индивидуумов, объединенных общими интересами, сферой деятельности, взглядами: Мы – адвеку пінская шляхта і ты шляхціц (НКРЯ, В. Дунін-Мар-цінкевіч. Пінская шляхта). По причине своей смысловой «размытости», способности к групповой идентификации и отсутствия четкой дейктической референции мы инклюзивное создает базу для определенных вербальных приемов, используемых субъектом речи для манипулирования сознанием адресата: – Кож-ны народ мае свой гонар. Англічанін перад усім светам горда вызначае: я – англічанін! Тое самае скажа француз, немец, аўстры-ец, расеец і іншыя прадстаўнікі другіх на-цый. А мы , беларусы, не адважваемся прызнацца ў тым, што мы – беларусы (НКРЯ, Я. Колас. У палескай глушы).
Позволяя говорящему исключить адресата из своей личностной сферы, эксклюзивное мы фокусирует внимание слушающего на высоком социальном положении субъекта речи с буквальным значением мы ‘мы (я) без тебя / без вас’ ( мы королевское): Мы , Уладзiслаў, з ласкi Божай кароль Польскi, вялiкi князь Лiтоўскi i спадкаемец (дзедзiч) Pyci, Да сведчання ўcix, каму патрэбна, жадаем, каб дайшло наступнае... (Прывiлей вялiкага князя Лiтоўскага i караля Польскага Уладзiслава...).
Употребление мы в сочетании с «поглощенным референтом» табой, вамі позволяет говорящему осуществлять косвенное воздействие на адресата для внушения своих идей, которые преподносятся как данность: – Мы з табою такія дружбакі, што вадою нас не разліць! (Бензярук). Такое употребление языковых единиц Т.М. Николаева назвала «лингвистической демагогией» [Николаева, 1988, с. 154].
Формы косвенных падежей личных местоимений 1-го и 2-го лица также несут определенную прагматическую нагрузку. Согласно Г.А. Золотовой, синтаксемы с генетивом 1-го и 2-го лица как конструкции с внешним посессором могут использоваться в функции «своеобразного диалогического зачина, зара-мочного заявления о себе говорящего лица... синтаксически не связанного с другими компонентами, но семантически сохраняющего отношения посессивности или целого – части с предметным компонентом модели» [Золотова, 2006, с. 115]. Например, в белорусском: – А ў нас у Езярышчах такі быў выпадак з адной дзяўчынай. Пайшла яна з маткай і сястрой у грыбы. І заблудзіла. Выходзіць на паляну, там старэнькі на пні сядзіць (НКРЯ, К. Тарасаў. Пагоня на Грунвальд). Исследователь А. Ченки объясняет трансформацию поссесивного значения конструкции у + Gen . и появление новых прагмасмыслов как процесс развития ее семантики от локативной сферы ( Петя у доски ) через посессивную ( у Пети есть книга ) к дискурсивной ( Он у нас хорошо работает ) [Cienki, 1995, р. 94– 96]. Синтаксема ты / вы / ён / яна / яны у мяне / нас в белорусском языке
-
1) манифестирует положительное восприятие говорящим адресата в виде похвалы, зачастую не соответствущее действительности (субъект-авторизатор [Машовец, 2000]): – І паглядзіце, якая яна ў нас прыгажуня, – падкрэслівае Алена Мікалаеўна. – Ну хто скажа, што ёй семдзесят (Праклала сця-жынку да фермы), или нейтрализует резкую критику говорящего в адрес других участников коммуникации: – Не муж у мяне , а неда-рэка ! (Салдат Іванька);
-
2) фокусирует внимание на неблагоприятном для адресата действии, каузатором которого является говорящий (субъект-каузатор [Машовец, 2000]): – Дзед! Ты ў мяне палу-чыш лішнія бізуны! І на гады твае не паг-ляджу (НКРЯ, I. Шамякiн. Петраград-Брэст).
Такой вектор семантического развития (от конкретных, объективных отношений к более абстрактным, прагматическим) опре- деляется влиянием фактора субъективации (subjectification) как возможности языковых единиц отражать не только окружающую действительность, но и отношение говорящего к ней.
Притяжательные местоимения мой, наш указывают на принадлежность объекта или его части субъекту речи. Согласно психологу У. Джеймсу, человеческое «я» состоит из многочисленных «мое»: «в самом широком смысле человеческое “я” – это сумма всего, что человек может назвать своим: не только его тело и его психика, но также его одежда и его жилище, его жена и дети, его предки, родственники и друзья, его репутация и то, чем он занимается, его земля, его лошади, его яхта и счет в банке. Все это вызывает у человека примерно одинаковые эмоции» [James, 2007, р. 291] (перевод наш. – О. А. ). В речевой коммуникации, где происходит непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами, мой в сочетании с ты и именем адресата способствуют сближению говорящего и слушателя с включением последнего в личностную сферу субъекта речи: – А мая ж ты даражэнькая , а мая ж ты таечка. А я ж з табою жаніц-ца хацеў (НКРЯ, У. Караткевіч. Чорны замак Альшанскі).
Обращения, построенные по модели «существительное / прилагательное + ты + мой », используются как дополнительное средство идентификации и характеризации адресата, где существительные или прилагательные занимают прагматически сильную позицию и актуализируют положительное отношение говорящего к слушающему: – Братка ты мой , што ты пад такім сонцам прыдума-еш вясёлае? (НКРЯ, І. Шамякiн. Вазьму твой боль); – Сыночак мой! Жывы! Жывы! А я ж цябе пахаваў, родненькі ты мой , крывінач-ка мая (НКРЯ, І. Шамякiн. Вазьму твой боль). В таких случаях, как справедливо отмечает Н.Д. Арутюнова, притяжательное местоимение указывает на субъект оценки (‘для меня ты милая / дорогая’) [Арутюнова, 1998, c. 116].
Субъективно-ориентированная семантика притяжательных местоимений 1-го лица мой и наш детерминирует их использование говорящим для реализации тактик:
-
1) иллюстрирования как обращения к фактам и примерам из личного опыта субъекта речи с опорой на общий с адресатом пре-суппозиционный фонд знаний: – Памятаеш нашу першую сустрэчу? Тою раніцай я за-ходзіла да сваіх знаёмых па апельсіны: яны недзе дастаюць іх, сказалі, што могуць да-стаць і мне (Стральцоў);
-
2) кооперации как создания в сознании адресата ощущения единения, общности с говорящим: – Справа, браце, у тым, што, як кажуць, не звяліся яшчэ багатыры на нашай зямлі. Нас пазвальнялі, а вось знай-шліся паміж нашаю братвою людзі, аб якіх мы нічога не ведаем і якія не мірацца з на-шым звальненнем, заступаюцца за нас, пратэстуюць. I наша справа такім чынам набывае пэўны водгук (НКРЯ, Я. Колас. На ростанях).
Выбор говорящим между местоимениями 2-го лица ты или Вы, указывающими на адресата, определяется степенью близости межличностных отношений участников коммуникации, их возрастными параметрами и социальным статусом. Как показал С. Дак, Т-форма используется для общения с близкими друзьями и родственниками; V-форма – для обращения к незнакомому или находящемуся выше по статусу адресату [Duck]. Это правило реализуется и в коммуникации на белорусском языке: – Вы, таварыш камандзір, задаяце правакацыйныя пытанні! – жор-стка і бадай злосна сказала Міра (НКРЯ, I. Шамякiн. Петраград-Брэст). Его нарушение и обращение на ты к незнакомому участнику коммуникации с высоким социальным статусом демонстрирует фамильярное, высокомерное или недоброжелательное отношение субъекта речи к собеседнику. Данная проблема получила свое освещение в прагмалингви-стических исследованиях на материале славянских языков [Писарек, 2006; Friedrich, 1966]. В белорусском языке вежливая форма Вы отличается от формы 2-го лица множественного числа вы графически и грамматически, так как предполагает употребление существительных и полных прилагательных в единственном числе: – Лайцеся, калі трэ- ба, – сказала дзяўчына. – Вы такі жывы. Без вас было так самотна (НКРЯ, У. Ка-раткевіч. Ладдзя Роспачы).
Как показал анализ контекстов, формы 2го лица не только обозначают социальные характеристики адресата, но и выражают определенные психоэмоциональные состояния говорящего и специфику его отношений с собеседником, подвергающиеся изменениям в процессе речевой интеракции, что зачастую усложняет выбор для субъекта речи между формами ты и Вы . В некоторых случаях смена формы обращения может являться следствием речевой инерции как коммуникативной нормы, обязывающей участников коммуникации с относительно одинаковым социальным статусом использовать симметричные показатели вежливости в диалоге: – Дзякуй вам , – ціхенька адказала дзяўчына. – I гэта... Заві мяне на ты . Добра? – Добра, Міця (НКРЯ, В. Быкаў. Пакахай мяне, салдацiк).
Спорадические переключения ты и Вы могут происходить в ситуациях, когда субъект речи сомневается в уместности одного из местоимений, что связано с конкуренцией форм как обязательным этапом в формировании языковой нормы: – Слухай, ты ... вы там нармальны ці не? (НКРЯ, В. Быкаў. Яго батальён).
Переключение местоимений может быть следствием изменения психоэмоционального состояния говорящего. Так, исследователь П. Фридрих указывая на существование «экспрессивного» ты [Friedrich, 1966, р. 248–251], объясняет ситуации замены Вы на ты переживанием коммуникантами сильных эмоций (гнев, радость, удивление и др.) и проводит аналогию употребления местоимений 2-го лица в подобных ситуациях с речью афатиков, которая характеризуется нейтрализацией иерархической оппозиции ты / Вы и переходом к ты .
Переключение местоимений может осуществляться говорящим сознательно с целью:
-
1) увеличения социальной дистанции между коммуникантами: – Дык вось, пап-рашу не блытаць. Хоць і малады, але вашы знявагі слухаць не маю намеру. Да таго ж папрашу на « вы ». – Што? – Папрашу называць на « вы » (НКРЯ, В. Быкаў. Яго ба-тальён);
-
2) сокращения социальной дистанции с включением адресата в личную сферу говорящего и перехода на новый уровень отношений с положительной коннотацией: – Слухай, Кар-нач, будзь шчырым да канца. Дапусцім, я не паламаю гэтага. Што будзеш рабіць? – нечакана весела і на « ты » спытаў Сас-ноўскі. – Нічога (НКРЯ, І. Шамякін. Атланты і карыятыды). В некоторых ситуациях сокращение социальной дистанции может восприниматься говорящим как вторжение в его личную сферу и оцениваться негативно: – Не будзь бюракратам! – амаль пагрозлiва папярэдзiў Шыковiч. Гукана ашаламiлi не столькi сло-вы, колькi тон, тое, што «пiсака гэты» вось так да яго – на « ты » (НКРЯ, I. Шамякiн. Сэрца на далонi):
Переход с ты на Вы , нарушая естественное развитие отношений от формальных к неформальным, сигнализирует об исключении адресата из личностной сферы говорящего и прекращении близких отношений: Сам заходзiў рэдка, раз у тры днi, на кароткi час, як лекар. Гэта не зблiжала, наадва-рот, аддаляла iх. Калi ў дзень сустрэчы ён казаў ёй « ты », то цяпер звяртаўся на « вы », як належыць лекару да хворай. На такое аддаленне ён пайшоў свядома (НКРЯ, I. Шамякiн. Сэрца на далонi). Иногда переключение с ты на Вы наблюдается у говорящего, находящегося в состоянии сильного эмоционального потрясения: Ну, што-ж? Жадаю вам быць шчаслівай у замужстве... За каго-ж выходзіш, Ліда? Лабановіч зва-рачаўся да яе то на « вы », то на « ты » (НКРЯ, Я. Колас. На ростанях) .
Опущение местоимений 2-го лица ты, вы происходит во вводных конструкциях с ментальными глаголами ведаць, разумець , используемых субъектом речи для фокусирования внимания собеседника на предмете разговора и интимизации сообщения: – А ты ? – Ведаеш , тут, можа, лёс такі. Можа, якая выпадковасць (НКРЯ, В. Быкаў. Пакахай мяне, салдацiк).
Генетив местоимений 2-го лица реализует свои прагмасмыслы только в процессе непосредственной диалогической интеракции и, по мнению И.М. Богуславского, выполняет в высказывании «миропорождающую» функцию [Богуславский, 1996, с. 441–449], указы- вая на релевантность знаний собеседника о ситуации, обусловленных особенностями его перцептивной системы, и демонстрирует тенденцию к генерализации: – Тут у вас усе як пыльным мехам аглушаныя (НКРЯ, В. Бы-каў. Мёртвым не баліць).
Генетив 1-го лица мяне / нас и 2-го лица цябе / вас позволяет коммуникантам разграничить свои личные сферы и выразить несогласие с представлениями друг друга об окружающей действительности на основе противопоставления маё , наша – добра / тваё , ваша – дрэнна : – Дурняў слухаць – розуму не займець. – Такі звычай, – настойваў поп. – Трэба шанаваць. – Тое ў вас . У нас дурных не шануюць (НКРЯ, У. Тарасаў. Пагоня на Грунвальд); – Ну, а дзе ж ваш Кіеў , дзе кіеўскі жаніх? (НКРЯ, У. Тарасаў. Тры жыцці княгіні Рагнеды).
Дательный этический табе , вас выражает эмоционально-ценностное отношение говорящего к ситуации общения и ее участникам, желание оказать определенное воздействие на адресата (несогласие, неодобрение, предупреждение, угрозу) и имеет тенденцию к фра-зеологизации с фиксированным порядком слов и ограничениями на лексическое наполнение: – За палачкі работалі? Так вам і нада! Нашто было лезці ў калгас? (НКРЯ, В. Быкаў. Знак бяды); – Так ён табе і выле-зе! – гуў знізу камандзірскі бас (НКРЯ, В. Быкаў. Сотнікаў).
Семантика местоимений 3-го лица ён, яна, яны, обозначающих не-участников коммуникации, отражает наличие дополнительных сведений о референте, которые представлены в предварительных знаниях собеседников, содержании высказывания или индивидуализирующем контексте. Нарушение этого правила ведет к непониманию между говорящим и адресатом и является причиной коммуникативной неудачи как недостижения субъектом речи своих прагматических устремлений: Размяклага Ігара Львовіча трымаць было цяжкавата, я апусціў яго на падлогу. Ад-чыніце, яго спаць трэба пакласці! Пачуў-шы незнаёмага, за дзвярыма трохі памаў-чалі. – Каго яго? Тэмбр голасу на маё здзіўленне раптам скінуўся з візготкі да зусім нармальнага. – Ігара Львовіча, каго яшчэ...– А, Ігара... А, Ігара... (НКРЯ, У. Няк-ляеў. Лабух).
Однако, как показал анализ фактического материала, в диалогической речи употребление местоимений ён или яна при референции к говорящему возможно при стереоскопическом описании ситуации одновременно с позиций нескольких участников коммуникации (говорящего и слушающего, говорящего и третьего лица): «Вось я, – як быццам казала яе душа праз вочы, вялікія, чорныя і бліску-чыя, – вось яна я (НКРЯ, У. Караткевіч. Дзікае паляванне караля Стаха). Такая когнитивная ориентация предполагает выход говорящего за пределы собственного «я» и переход индивида из сферы своего сознания в объектный мир для видения себя стороны.
Прагматический потенциал притяжательных местоимений 3-го лица яго , яе , іх ( іхні ) реализуется при использовании участниками коммуникации:
-
1) тактики сопоставительного анализа через оппозицию притяжательных местоимений 1-го и 3-го лица множественного числа или указательного местоимения той , тая , тое , тыя : – Я вам кажу. І вы лепей не на наш разумны гуманізм навальвайцеся, а на тых , хто труціць азёры, рэкі, лясы, хто не сёння-заўтра атруціць акіяны. Мы – усё для ўнукаў, хаця рукі ў нас часам бы-ваюць у крыві. У тых – усё для кішэні і пуза, а рукі чысценькія (НКРЯ, У. Карат-кевіч. Чазенія);
-
2) тактики дистанцирования на базе семиотической оппозиции «свои – чужие», которая выражается через противопоставление местоимений наш – іх (іхні ), тыя : – А хоць бы, як у амерыканскай арміі. Мы ж на курсах яе вывучалі. Дык наша ад іхняй – як зямля ад неба. А ўсё чаму? Бо перадраць па-людску не ўмеюць. Абавязкова спаскуд-зяць, спрасцяць і пагоршаць (НКРЯ, В. Бы-каў. Ваўчыная яма).
Притяжательное местоимение свой аккумулирует в себе прагмасмыслы местоимений всех трех лиц, поэтому оценочный диапазон его значений значительно шире: от свой «со знаком плюс», где оно эмфатично и находится в ударной, рематической позиции: – Аткрой, мамаша.
Сваі (НКРЯ, В. Быкаў. Знак бяды) до неударного сваі «са знаком минус»: – Адразу відно, што рыбакова жонка. Ну, не плач, Насту-лечка, не плач. Я табе з дружыны, з паходу залаты і срэбны бранзалет прывязу. – Спру-цяней ты са сваімі бранзалетамі, – пачала хустачкаю выціраць слёзы жонка (НКРЯ, Л. Дайнека. След ваўкалака).
В речевой коммуникации на прагматику личных местоимений особое влияние оказывает фактор транспозиции – использование одной формы личных местоимений в функции другой, что обусловлено, с одной стороны, семантическим ресурсом личных форм, а с другой – характерными для определенной лин-гвокультуры коммуникативными тактиками и стратегиями. В результате местоимения приобретают в речевой коммуникации дополнительные прагматические (аксиологические, эмотивные и социокультурные) функции, формируемые под влиянием субъективации – направления семантического развития, при котором, по мнению Р. Лангакера, единица приобретает дополнительные компоненты значения с возможным закреплением их в системе языка [Langaсker, 2002, p. 318].
Как показал анализ фактического материала, белорусскому диалогическому дикурсу свойственна транспозиция форм 1-го или 2-го лиц 3-м для деперсонализации и элиминации говорящего или слушающего из коммуникации, введения фиктивного, гипотетического адресата [Воробйова, 1993, с. 139], обращения к аудитории и вынесения ситуации на всеобщее обсуждение для выражения негативной оценки: – Даражэнькая, я вырашыў болей ніколі з табой не сварыцца! – Не, вы толькі паглядзіце на яго ! Ён вырашыў ... А ў мяне ты спытаў!? (Калі жонка кажа).
Иногда говорящий осуществляет транспозицию я именем собственным, уменьшает степень субъективности своего высказывания для убеждения адресата в истинности своего высказывания: – Няпраўду гаворыш, – заў-сміхаўся паліцай з павязкай. – Каландзёнак не хлусіць (НКРЯ, В. Быкаў. Знак бяды).
Транспозиция форм 1-го лица я, мы 2-м ты, вы свойственна внутреннему диалогу или автокоммуникации как особому типу речевой ситуации, когда говорящий сознательно производит эту замену, чтобы сделать высказывание более дистанцированным: Ты чуеш, як шапоча вецер, Як зоркі льюць сваё святло (Боровка).
Транспозиция форм 1-го и 2-го лиц конкретно-личными формами 3-го лица множественного числа осуществляется говорящим для пейоративной характеристики действия, производимого адресатом: – Лапаюць тут усякія бруднымі рукамі (Казько).
Таким образом, личные и притяжательные местоимения как актуализаторы персонального дейксиса в дискурсе не только указывают на участников коммуникации, но и выполняют важные прагматические функции: выступают индикаторами изменений в межличностной и психологической сферах участников речевой интеракции, характеризуют размер социальной дистанции между ними, создаваемой неосознанно или детерминируемой контекстом речевого акта, способствуют установлению контакта между коммуникантами, отражают их групповую принадлежность, элиминируют или вводят дополнительных воображаемых участников в процесс речевой интеракции, а также позволяют участникам производить различные вербальные манипуляции с сознанием и успешно регулировать свои взаимоотношения в процессе коммуникации посредством реализации определенных тактик и стратегий. Возникновение подобных дополнительных прагматических функций у местоименных актуализаторов персонального дейксиса происходит в результате расширения первичного указательного значения под влиянием субъек-тивации как одного из направлений семантического развития местоименных показателей персонального дейксиса в связи с появлением новых функций, отражающих отношение говорящего к окружающей его действительности.
Список литературы Прагматика персонального дейксиса в белорусском языке
- Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека/Н. Д. Арутюнова. -М.: Языки русской культуры, 1998. -895 с.
- Богуславский, И. М. Сфера действия лексических единиц/И. М. Богуславский. -М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. -464 с.
- Воробйова, О. П. Текстовi категорiї i фактор адресата/О. П. Воробйова. -К.: Вища школа, 1993. -171 с.
- Грайс, Г. П. Логика и речевое общение/Г. П. Грайс//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. -М.: Прогресс, 1985. -С. 217-237.
- Золотова, Г. А. Синтаксический словарь: репертуар элементарных единиц русского синтаксиса/Г. А. Золотова. -М.: Эдиториал УРСС, 2006. -440 с.
- Машовец, Е. Н. Коммуникативные затруднения иностранцев при употреблении конструкций с «дательным этическим»/Е. Н. Машовец//Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. -С. 141-146.
- Николаева, Т. Н. Лингвистическая демагогия/Т. М. Николаева//Прагматика и проблемы интенсиональности. -М.: Наука, 1988. -С. 154-166.
- Писарек, Л. Местоименная оппозиция ty-wy в польском языке (лингвопрагматический аспект)/Л. Писарек//Славистика: синхрония и диахрония: cб. науч. ст. к 70-летию И.С. Улуханова/под общ. ред. В. Б. Крысько. -М.: Азбуковник, 2006. -С. 42-51.
- Успенский, Б. А. Ego Loquens: язык и коммуникационное пространство/Б. А. Успенский. -М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2007. -320 с.
- Cienki, A. The Semantics of Possessive and Spatial Constructions in Russian and Bulgarian: A Comparative Analysis in Cognitive Grammar/A. Cienki//The Slavic and East European Journal. -1995. -Vol. 39, № 1. -P. 73-114.
- Duck, S. W. Human Relationships/S. W. Duck. -Electronic text data. -Mode of access: http://sk. sagepub.com/books/human-relationships-4e (date of access: 04.03.2017). -Title from screen.
- Friedrich, P. Structural implications of Russian pronominal usage/P. Friedrich//Sociolinguistics: proc. of the UCLA Sociolinguistics сonf., 1964. -The Hague; Paris: Mouton & Co, 1966. -P. 214-253.
- James, H. The Principles of Psychology/H. James. -New York: Сosimo Inc., 2007. -Vol. 1. -622 р.
- Langaсker, R. W. Concept, image, and symbol: The cognitive basis of grammar/R. W. Langaсker. -Berlin: Mouton de Gruyter, 2002. -P. 315-366.
- Levinson, S. C. Pragmatics/S. C. Levinson. -Cambridge: Cambridge University Press, 1983. -438 p.
- Бензярук, Р. Вадой не разлiць/Р. Бензярук. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: knihi.com›Rascislau_Bienziaruk/Vadoj...razlic.html. (дата обращения: 03.03.2017). -Загл. с экрана.
- Боровка, А. Патаемнае. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: stihi.ru›2011/07/15/2632 (дата обращения: 04.03.2017). -Загл. с экрана.
- Казько, В. Выратуй i памiлуй нас, чорны бусел/В. Казько. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://pdf.kamunikat.org/23452-1.pdf (дата обращения: 03.04.2017). -Загл. с экрана.
- Калi жонка кажа//Наша нiва. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://nn.by/?c=ar&i= 152313 (дата обращения: 03.04.2017). -Загл. с экрана.
- НКРЯ -Национальный корпус русского языка. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://ruscorpora.ru/search-para-be.html (дата обращения: 12.02.2017). -Загл. с экрана.
- Праклала сцяжынку да фермы//Прамень. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: pramen-news.by›?p=15011 (дата обращения: 03.02.2017). -Загл. с экрана.
- Прывiлей вялiкага князя Лiтоўскага i караля Польскага Уладзiслава (Ягайлы) 1387 года. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/letapisy-gramaty-pryvilei-khii-khvi-st-st/belaruskiya-gramaty-i-pryvilei-khiii-khiv-st-st/pryviley-vyalikaga-knyazya-lito-skaga-i-karalya-polskaga-uladzislava-yagayly-1387-goda/ (дата обращения: 14.04.2017). - Загл. с экрана.
- Салдат Iванька. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.be.wikisource.org›wiki/Салдат_ Iванька (дата обращения: 10.03.2017). -Загл. с экрана.
- Стральцоў, М. Сена на асфальце/М. Стральцоў. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://knihi.com/Michas_Stralcou/Siena_na_asfalcie. html (дата обращения: 12.04.2016). -Загл. с экрана.