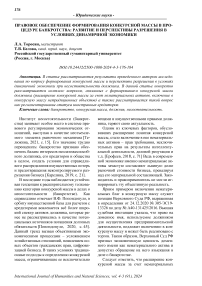Правовое обеспечение формирования конкурсной массы в процедуре банкротства: развитие и перспективы разрешения в условиях динамичной экономики
Автор: Торосян Л.А., Белова Т.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 4-3 (91), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются результаты проведенного автором исследования по вопросу формирования конкурсной массы и перспективы разрешения в условиях динамичной экономики при несостоятельности должника. В данной статье конкретно рассматривается комплекс вопросов, связанных с формированием конкурсной массы должника (расширение конкурсной массы за счет нематериальных активов, включение в конкурсную массу нетрадиционных объектов) а также рассматривается такой вопрос как регламентирование статуса иностранных кредиторов.
Банкротство, конкурсная масса, должник, несостоятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/170205677
IDR: 170205677 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-4-3-176-184
Текст научной статьи Правовое обеспечение формирования конкурсной массы в процедуре банкротства: развитие и перспективы разрешения в условиях динамичной экономики
Институт несостоятельности (банкротства) занимает особое место в системе правового регулирования экономических отношений, выступая в качестве неотъемлемого элемента рыночного механизма [Те-люкина, 2021, с. 15]. Его значение трудно переоценить: банкротство призвано обеспечить баланс интересов неплатежеспособного должника, его кредиторов и общества в целом, создать условия для справедливого распределения имущественных потерь и предотвращения неконтролируемого разрушения бизнеса [Карелина, 2019, с. 21].
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к расширительному толкованию категории конкурсной массы в делах о несостоятельности (банкротстве). Как справедливо отмечает В.Ф. Попондопуло, в орбиту имущественной базы для расчетов с кредиторами вовлекается всё более широкий спектр активов должника, которые ранее не рассматривались в качестве потенциальных источников погашения долговых обязательств [Попондопуло, 2020, с. 45]. Данный тренд вызван объективными экономическими процессами – усложнением хозяйственных отношений, появлением новых объектов гражданских прав, цифровизацией бизнеса. В таких условиях традиционные подходы к определению конкурсной массы, ограничивающие ее исключительно вещами и имущественными правами должника, теряют свою актуальность.
Одним из ключевых факторов, обусловивших расширение понятия конкурсной массы, стало включение в нее нематериальных активов – прав требования, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, деловой репутации и т.д. [Ерофеев, 2018, с. 71] Ведь в современной экономике именно нематериальные активы зачастую составляют львиную долю рыночной стоимости бизнеса, превалируя над его материальной составляющей. Законодатель и правоприменитель не могли игнорировать эту объективную реальность.
Ярким примером включения нематериальных благ в конкурсную массу служит позиция Верховного Суда РФ, выраженная в определении от 24.12.2020 № 305-ЭС19-13326 по делу № А40-131425/2016. Высшая судебная инстанция указала, что право на доменное имя, используемое должником для осуществления предпринимательской деятельности, подлежит включению в конкурсную массу и может быть реализовано с торгов. Таким образом, Верховный Суд РФ признал экономическую ценность доменного имени как нематериального актива и допустил обращение на него взыскания в деле о банкротстве.
Следует отметить, что расширение конкурсной массы за счет нематериальных активов – не просто дань времени, а насущная необходимость, продиктованная интересами кредиторов. В условиях, когда значительная часть имущества должника существует в виде исключительных прав, know-how, клиентской базы, бренда, деловой репутации, исключение подобных объектов из конкурсной массы существенно снижает шансы на погашение требований кредиторов. Более того, недобросовестные должники получают возможность выводить наиболее ликвидные активы из-под удара, оставляя кредиторам лишь неликвидные материальные остатки бизнеса. Как справедливо подчеркивает С.А. Карелина, обращение взыскания на нематериальные активы должника служит эффективным средством противодействия злоупотреблениям с его стороны и защиты добросовестных кредиторов [Карелина, 2019, с. 98].
Другим знаковым трендом в развитии института конкурсной массы является включение в нее принципиально новых цифровых объектов - криптовалюты, токенов, виртуального имущества и пр. Данная тенденция обусловлена стремительной ди-джитализацией экономических отношений, при которой всё большая доля хозяйственной активности переносится в киберпространство [Санникова, Харитонова, 2018, с. 52]. Цифровые активы приобретают всё большее распространение и ликвидность, становясь привлекательным объектом для инвестирования и проведения расчетов. Неудивительно, что многие современные должники владеют криптовалютой, которая составляет заметную часть их имущества.
В этих условиях исключение цифровых активов из конкурсной массы означало бы искусственное сужение имущественной базы для расчетов с кредиторами и создавало бы почву для злоупотреблений со стороны недобросовестных должников. Осознавая данную проблему, законодатель и правоприменитель постепенно легализуют цифровые объекты в качестве элементов конкурсной массы.
Одним из первых шагов в этом направлении стало принятие Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон, хотя и не решил всех проблем правового регулирования криптоактивов, заложил нормативный фундамент для их включения в конкурсную массу. В частности, п. 6 ст. 14 Закона установил, что цифровая валюта может быть истребована в качестве имущества гражданина-банкрота для включения в конкурсную массу.
Вместе с тем, включение цифровых активов в конкурсную массу сопряжено с рядом практических трудностей. В отличие от материального имущества, виртуальные объекты крайне сложно идентифицировать и связать с конкретным лицом ввиду анонимности большинства криптовалютных транзакций [Ефимова, 2019, с. 94]. Еще более затруднительна оценка рыночной стоимости криптоактивов и их реализация в ходе конкурсного производства. Кроме того, правовой режим многих цифровых объектов (например, внутриигровых предметов и валют) пока не определен, что создает регуляторный вакуум.
Преодоление этих барьеров требует развития законодательства о цифровых правах, создания специальной инфраструктуры для учета и обращения виртуальных активов, обеспечения их конвертации в фи-атные деньги, подготовки арбитражных управляющих, специализирующихся на работе с криптоактивами [Лаутс, 2019, с. 117]. Только так можно органично интегрировать цифровое имущество должника в конкурсную массу, не создавая рисков для стабильности имущественного оборота.
Наконец, еще одной гранью расширения конкурсной массы является включение в нее нетрадиционных объектов, юридическая природа которых пока не устоялась. Речь идет, к примеру, о бонусных милях, накопленных должником в программах лояльности авиакомпаний, бонусных баллах мобильных операторов и ритейлеров, депозитах в электронных платежных системах и т.д. [Суворов, 2021, с. 62] Правовой режим этих активов неоднозначен, однако они, безусловно, представляют экономическую ценность, а значит – могут служить потенциальным источником пополнения конкурсной массы.
Приходим к выводу, что современные реалии диктуют необходимость расширения понятия конкурсной массы, включения в нее принципиально новых объектов – нематериальных активов, цифрового имущества, иных нетрадиционных ценностей. Это объективно отвечает интересам кредиторов, позволяя максимально полно вовлечь имущество должника в процесс расчетов по долгам. Вместе с тем, реализация данного тренда сопряжена с рядом трудностей – неопределенностью правового режима новых объектов, проблемами их идентификации, оценки и реализации в ходе конкурсного производства. Преодоление этих сложностей предполагает дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, а также формирование устойчивой судебной практики в данной сфере.
Только последовательно расширяя границы конкурсной массы, адаптируя ее к динамично меняющейся экономической действительности, мы сможем обеспечить эффективную и справедливую защиту интересов кредиторов в делах о несостоятельности. И ключевая роль в этом процессе принадлежит совместным усилиям законодателя, судов и научного сообщества.
Одной из наиболее острых и дискуссионных проблем, связанных с формированием конкурсной массы при банкротстве должника, является обеспечение прав и законных интересов его добросовестных контрагентов. Речь идет о лицах, которые вступили в правоотношения с несостоятельным субъектом, будучи не осведомленными о его неплатежеспособности и не преследуя цели причинения вреда кредиторам [Карелина, 2019, с. 215]. В условиях банкротства такие контрагенты оказываются в крайне уязвимом положении, рискуя лишиться полученного от должника имущества по мотиву неравноценности встречного предоставления или осведомленности о финансовых трудностях компании.
Ключевым инструментом, позволяющим оспорить сделки должника и вернуть выбывшие активы в конкурсную массу, выступают специальные банкротные основания недействительности, закрепленные в ст. 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Как указывает В.В. Витрянский, данные нормы направлены на обеспечение справедливого распределения имущества должника между кредиторами и преодоление негативных последствий недобросовестных действий по выводу активов накануне банкротства [Витрянский, 2018, с. 92]. Однако на практике реализация этого механизма сопряжена с существенными рисками для добропорядочных участников оборота.
Проблема состоит в том, что действующее законодательство не содержит четких и однозначных критериев добросовестности контрагента должника, позволяющих отграничить обычную хозяйственную деятельность от злонамеренных схем по отчуждению имущества. Как справедливо отмечает А.А. Аюрова, установленные в законе презумпции недобросовестности контрагента (например, в случае получения им неравноценного встречного исполнения) являются неоправданно широкими и ставят под удар любые сделки, цена которых отклоняется от рыночного уровня [Аю-рова, 2020, с. 84]. В результате для оспаривания транзакции достаточно констатировать формальные признаки подозрительности, при этом реальная осведомленность контрагента о финансовых проблемах должника не имеет решающего значения.
Сложившаяся ситуация порождает правовую неопределенность и создает почву для необоснованного разрушения устоявшихся хозяйственных связей. Арбитражный управляющий, действуя в интересах кредиторов и стремясь любой ценой пополнить конкурсную массу, оспаривает даже добросовестные сделки контрагентов с должником. Причем нередко заявления управляющего удовлетворяются судами при наличии малейших сомнений в эквивалентности обмена и без глубокого анализа реальной цели, которую преследовали стороны [Мифтахутдинов, 2019, с. 46]. В результате имущество выбывает из конкурсной массы помимо воли добросовестных лиц, которые вынуждены нести убытки из-за непредвиденного банкротства контрагента.
Парадоксально, но в погоне за соблюдением имущественных интересов кредиторов должника закон зачастую игнорирует законные права и ожидания иных участников оборота, вовлеченных в орбиту несостоятельности. Как точно подметила Е.Д. Суворов, происходит подмена цели восстановления нарушенных прав кредиторов целью изъятия максимального объема имущества в конкурсную массу безотносительно к добросовестности приобретателей [Суворов, 2019, с. 152]. Такой дисбаланс интересов порождает дополнительные риски в экономике, дестимулирует деловую активность и может привести к волне «вторичных банкротств» среди контрагентов несостоятельного лица.
Очевидно, что отечественное законодательство нуждается в корректировке с целью обеспечения более сбалансированной защиты прав кредиторов и контрагентов должника.
Вместе с тем, в судебной практике до сих пор не сложилось единого стандарта доказывания добросовестности контрагента. Как отмечает Р.К. Лотфуллин, суды зачастую возлагают на контрагента непосильное бремя опровержения обстоятельств, которые заведомо находятся вне сферы его контроля - например, доказывания того, что полученные от должника средства не были использованы в личных целях [Лот-фуллин, 2020, с. 113]. В других случаях, напротив, для подтверждения добросовестности достаточно заверений самого контрагента о неосведомленности относительно финансовых затруднений должника. Это свидетельствует об отсутствии в правоприменительной практике четких и недвусмысленных критериев разграничения добросовестного и недобросовестного поведения в отношениях с несостоятельным лицом.
Думается, что решение проблемы лежит в комплексном совершенствовании модели оспаривания сделок при банкротстве. Прежде всего, необходимо законодательно закрепить повышенный стандарт доказывания недобросовестности контрагента, возложив бремя опровержения его добросовестности на оспаривающее сделку лицо (будь то арбитражный управляющий или кредиторы). Как справедливо указывает В.В. Витрянский, действия контрагентов должника должны оцениваться исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданского оборота [Витрянский, 2018, с. 95]. Лишь когда оспаривающей стороне удастся предоставить серьезные и однозначные доказательства недобросовестности, контрагент может быть привлечен к ответственности по правилам ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве.
Кроме того, следует конкретизировать перечень критериев добросовестности контрагента, придав им нормативное закрепление. В их число могут войти: соответствие цены сделки рыночному уровню, типичность условий для аналогичных операций, совершение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, надлежащее выполнение должником публичных обязанностей (например, по уплате налогов) на момент сделки и т.д. [Дождев, 2020, с. 37]. Это позволит унифицировать подходы судов к оценке поведения контрагентов, исключив субъективизм и непредсказуемость в данном вопросе.
Наконец, серьезного переосмысления требует сама цель оспаривания сделок при банкротстве. Как было показано выше, сведение этой цели к безусловному пополнению конкурсной массы любой ценой идет вразрез с интересами гражданского оборота и добросовестных его участников. Более правильным видится поставить во главу угла восстановление справедливого баланса между кредиторами, а не создание привилегированного положения для одних за счет ущемления прав других. Это предполагает дифференцированный подход к оспариванию сделок в зависимости от реальных намерений сторон, характера их отношений, влияния сделки на интересы кредиторов и иных заслуживающих внимания обстоятельств.
По нашему мнению, проблема защиты прав добросовестных контрагентов должника при несостоятельности не имеет простого решения. Попытки оградить кредиторов от недобросовестного поведения отдельных участников оборота нередко оборачиваются ущемлением интересов добропорядочных лиц. Найти компромисс между столь разнонаправленными стремлениями - задача не из легких. Однако альтернативы взвешенному и сбалансированному подходу, выстраивающему четкие границы добросовестности и обеспечивающему равную защиту всех затронутых несостоятельностью субъектов, попросту нет. Только так можно переломить негативную тенденцию потери правовой определенности в отношениях банкротства и восстановить эффективность данного института как одного из ключевых элементов рыночной экономики.
В условиях глобализации мировой экономики, усиления интеграционных процессов и интернационализации хозяйственных связей всё большее распространение получают так называемые трансграничные банкротства. Речь идет о несостоятельности лиц, активы и кредиторы которых находятся в нескольких государствах, что порождает конкуренцию юрисдикций и коллизию правопорядков [Собина, 2018, с. 22]. В этом контексте особую остроту приобретают вопросы формирования конкурсной массы должника, ведь от их решения зависит объем имущества, доступного для расчетов с кредиторами, и в конечном счете – эффективность трансграничной процедуры банкротства.
Ключевой проблемой здесь выступает противоречие между принципом единства конкурсной массы (или универсальности банкротства) и территориальным подходом к несостоятельности. Первый подход, доминирующий в законодательстве большинства развитых стран, предполагает, что все активы должника, независимо от места их нахождения, образуют единый имущественный комплекс, на который распространяется власть единого конкурсного управляющего [Мохова, 2017, с. 44]. Цель такого подхода – обеспечить равенство кредиторов и единообразие правил распределения конкурсной массы вне зависимости от локализации их требований.
Территориальный же подход, напротив, исходит из того, что несостоятельность должна проводиться отдельно в каждой стране по месту нахождения активов банкрота с применением национального законодательства данной страны [Синицын, 2020, с. 68]. Как отмечает Л.Ю. Собина, такая модель ведет к разделению конкурсной массы на независимые части и установлению приоритета местных кредиторов в каждой из затронутых юрисдикций [Со-бина, 2018, с. 25].
К сожалению, действующее российское законодательство придерживается именно территориального подхода к трансграничным банкротствам. Согласно ст. 1(6) ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при банкротстве иностранных лиц в России их российские активы образуют отдельную конкурсную массу, распределяемую в соответствии с требованиями российского права и в приоритетном порядке между кредиторами, заявившими свои требования в деле о банкротстве, возбужденном на территории РФ. При несостоятельности российских субъектов за рубежом находящееся там имущество должника вовсе выпадает из сферы действия отечественного законодательства и не может быть включено в конкурсную массу, сформированную в российском деле о банкротстве.
Подобное положение дел не только не отвечает передовым трендам регулирования трансграничной несостоятельности, но и создает благоприятную почву для злоупотреблений и ущемления прав добросовестных субъектов. Так, недобросовестный должник получает возможность «припрятать» активы в иностранных юрисдикциях, выведя их из-под контроля российского конкурсного управляющего. Напротив, иностранные кредиторы российских банкротов рискуют остаться ни с чем, не имея доступа к зарубежному имуществу должника. Наконец, сами должники оказываются перед угрозой «параллельных банкротств» в нескольких странах сразу, что влечет несогласованность процедур и многократное увеличение временных и финансовых издержек.
В качестве выхода из сложившейся ситуации в литературе предлагается переход к модели единого производства по делу о трансграничном банкротстве. Эта модель предполагает открытие основного производства по месту нахождения центра основных интересов должника (так называемый COMI-стандарт) и координацию с судами других стран в части розыска, ареста и репатриации зарубежных активов [Мохова, 2017, с. 48]. Ключевую роль в реализации данной идеи призван сыграть Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997 г., который закрепляет принцип сотрудничества судов и конкурсных управляющих разных стран в деле о банкротстве.
Показательно, что ряд стран СНГ уже инкорпорировал положения Типового закона в свое национальное законодательство. В частности, Республика Беларусь в 2018 г. дополнила Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» главой 15, детально регламентирующей процедуры признания иностранных банкротств, координации параллельных производств и трансграничного сотрудничества [Царик, 2019, с. 115]. Тем самым был сделан важный шаг к выстраиванию эффективной системы взаимодействия между право-порядками в области несостоятельности.
К сожалению, в России имплементация идей Типового закона пока не состоялась. Неоднократные попытки разработки национального регулирования трансграничных банкротств (в частности, в рамках обсуждения проекта ФЗ «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)») не увенчались успехом. Как следствие, отечественное право продолжает базироваться на территориальной модели, которая не позволяет сформировать конкурсную массу, в полной мере учитывающую все активы должника независимо от их географического расположения.
Очевидно, что дальнейшие шаги в этом направлении невозможны без серьезной реформы законодательства. Первоочередной задачей здесь видится имплементация ключевых положений Типового закона ЮНСИТРАЛ в ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Речь идет, в частности, о введении процедуры признания иностранных банкротств, критериев определения COMI должника, протоколов взаимодействия управляющих и судов и т.д. Это позволит обеспечить учет всей конкурсной массы банкрота в рамках единого или скоординированных производств.
Кроме того, следует детально регламентировать статус иностранных кредиторов в российском деле о банкротстве, уравняв их в правах с отечественными кредиторами. Любые проявления дискриминации по признаку «национальности» требования или местонахождения кредитора должны решительно пресекаться [Dahl, 2021, p. 39]. Только так можно обеспечить подлинное равенство и справедливость в распределении конкурсной массы при трансграничной несостоятельности.
Наконец, необходимо развивать институт многостороннего и двустороннего сотрудничества при банкротстве. Речь идет о заключении международных договоров о правовой помощи по делам о несостоятельности, разработке типовых протоколов взаимодействия судов и управляющих, создании площадок для обмена опытом и лучшими практиками. Как справедливо отмечает Е.В. Мохова, создание глобальной «сети банкротства» – ключ к эффективному решению трансграничных коллизий в данной области [Мохова, 2017, с. 51].
По нашему мнению, проблема конкурсной массы в трансграничном банкротстве – это отнюдь не умозрительная материя, а самый что ни на есть практический вопрос, от которого зависят права и законные интересы многих лиц – должника, кредиторов, работников и контрагентов компании-банкрота. Попытки решить этот вопрос на основе устаревших территориальных подходов - путь в никуда. Только последовательно внедряя принцип единства конкурсной массы, развивая международное сотрудничество и имплементируя передовой зарубежный опыт, мы сможем обеспечить полноценную защиту прав и интересов всех затронутых банкротством субъектов независимо от их «прописки». И ключевая роль в этом процессе принадлежит совместным усилиям законодателя, судов, научного и бизнес-сообщества.
Подводя итоги проведенного исследования актуальных тенденций в определении конкурсной массы должника при несостоятельности, следует отметить многогранность и многоаспектность данной проблематики. Формирование имущественной базы для расчетов с кредиторами в процессе банкротства – это отнюдь не рутинный технический вопрос, а сложная правовая материя, от решения которой зависит эффективность и справедливость всей процедуры несостоятельности.
Расширение конкурсной массы сопряжено с серьезными правовыми вызовами. Ключевой из них – обеспечение прав и интересов добросовестных контрагентов несостоятельного лица, которые рискуют пострадать от необоснованного оспаривания сделок в ходе банкротства. Не менее остро стоит проблема определения состава и статуса конкурсной массы в условиях трансграничной несостоятельности, когда активы должника рассредоточены по нескольким юрисдикциям. Преодоление этих коллизий требует выработки качественно новых правовых инструментов, отвечающих вызовам времени.
Магистральный путь решения обозначенных проблем видится в комплексном совершенствовании законодательства о банкротстве и формировании единообразной судебной практики. Речь идет о законодательном закреплении расширенного понятия конкурсной массы, включающего принципиально новые объекты; о нормативной регламентации критериев добросовестности контрагентов должника при оспаривании подозрительных сделок; о закреплении модели единого или скоордини- рованных трансграничных производств по делу о банкротстве. Только системная и последовательная работа по данным направлениям позволит адаптировать институт несостоятельности к динамично меняющимся условиям рынка.
Вместе с тем, одних лишь усилий законодателя и судов недостаточно. Не менее важна солидарная позиция научного и биз-нес-сообщества по ключевым вопросам формирования конкурсной массы. Открытое обсуждение проблем, обмен опытом, выработка консолидированных предложений по совершенствованию правового регулирования – всё это необходимые слагаемые успеха в достижении баланса интересов всех участников отношений банкрот- ства.
В конечном счете, только гибко реагируя на меняющийся экономический ландшафт, своевременно адаптируя нормативную базу и правоприменительную практику, мы сможем обеспечить нахождение конкурсной массы в процессе банкротства на уровне, отвечающем критериям справедливости, разумности и эффективности. А это, в свою очередь, будет работать на поддержание стабильности гражданского оборота, предсказуемость правил игры на рынке и устойчивость всей системы хозяйственных связей. Сбалансированный подход к решению затронутых в настоящей статье проблем – непременное условие того, чтобы институт несостоятельности и впредь выполнял свою ключевую миссию защитника и гаранта рыночной экономики.
Список литературы Правовое обеспечение формирования конкурсной массы в процедуре банкротства: развитие и перспективы разрешения в условиях динамичной экономики
- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5018.
- Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. - 2011. - № 3.
- Аюрова А.А. Оспаривание сделок должника согласно нормам законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Судья. - 2020. - № 6. - С. 80-89.
- Витрянский В.В. Обеспечение исполнения обязательств при банкротстве должника // Хозяйство и право. - 2018. - № 8. - С. 91-99.
- Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип // Политико-правовые ценности: история и современность / Под ред. В.С. Нерсесянца. - М.: Эдиториал УРСС, 2020. - С. 30-44.
- Ерофеев А.А. Правовой режим нематериальных активов в предбанкротный период // Судья. - 2018. - № 5. - С. 68-74.
- Ефимова О.В. Правовой режим криптовалют в России и за рубежом // Предпринимательское право. - 2019. - № 1. - С. 90-96.
- Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учебно-практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2019. - 352 с.
- Лаутс Е.Б. Правовое регулирование использования цифровых технологий в банкротстве // Предпринимательское право. - 2019. - № 1. - С. 114-123.
- Лотфуллин Р.К. Оспаривание сделок при банкротстве: как повысить стандарт доказывания? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2020. - № 9. -С.111-126.
- Мифтахутдинов Р.Т. Ограничение права на оспаривание сделок должника в процедурах банкротства // Судья. - 2019. - № 4. - С. 45-49.
- Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых конструкций // Закон. - 2017. - № 5. - С. 40-51.
- Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: 2-е изд., перераб. и доп. / В.Ф. Попондопуло. М.: Проспект, 2020. 433 с.
- Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ: монография. - М.: Издательство «Юридическая фирма «4 ПРИНТ», 2018. - 298 с.
- Синицын С.А. Механизм правового регулирования трансграничной несостоятельности в праве ЕАЭС и Европейского союза: сравнительный анализ // Российское правосудие. - 2020. - № 8. - С. 65-78.
- Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. - М.: Статут, 2018. - 186 с.
- Суворов Е.Д. Судебная реализация права на защиту при оспаривании сделок несостоятельного должника // Вестник гражданского права. - 2021. - № 1. - С. 54-71.
- Телюкина М.В. Конкурсное право: Теория и практика несостоятельности (банкротства). - М.: Юстицинформ, 2021. - 592 с.
- Царик В.В. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в странах ЕАЭС: перспективы гармонизации // Журнал российского права. - 2019. - № 1. - С. 110122.
- Dahl А. The Proper Scope of Avoidance Powers in Cross-Border Insolvencies: Resolving the Conflict // Columbia Journal of Transnational Law. - 2021. - Vol. 59. - P. 34-63.