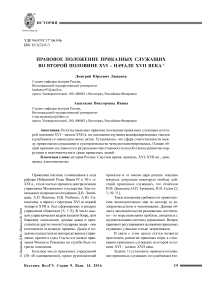Правовое положение приказных служащих во второй половине XVI - начале XVII века
Автор: Лащенов Дмитрий Юрьевич, Ивина Анастасия Викторовна
Рубрика: История в фокусе исследований молодых ученых
Статья в выпуске: 14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье выявлено правовое положение приказных служащих во второй половине XVI - начале XVII в. на основании изучения кодифицированных текстов (судебников) и законодательных актов. Установлено, что сфера ответственности между приказными служащими в судопроизводстве четко регламентировалась. Однако общий принцип сословности в разделении ответственности способствовал развитию коррупции и взяточничества в среде приказных людей.
История России, смутное время, приказы, xvi-xvii вв, дьяк, право, взяточничество
Короткий адрес: https://sciup.org/14968045
IDR: 14968045 | УДК: 94(470)“17”:06.046
Текст научной статьи Правовое положение приказных служащих во второй половине XVI - начале XVII века
Приказная система, сложившаяся в ходе реформ Избранной Рады Ивана IV в 50-х гг. XVI в., стала частью процесса централизации управления Московского государства. Как показывают недавние исследования Д.В. Лисей-цева, А.П. Павлова, Н.В. Рыбалко, А.Ю. Са-восичева, в период с середины XVI до первой четверти XVII в. был сформирован и аппарат управления обществом [5; 7–9]. В число высших управленческих кадров входили бояре, дети боярские, окольничие, думные дьяки и представители других чинов Государева двора – они возглавляли отдельные приказы. Дьяки и подьячие осуществляли непосредственное управление, причем в годы Смуты и в начале правления Михаила Романова на службе было их третье поколение.
Большое число приказных учреждений (30–40 одновременно), право руководителей приказов и от имени царя решать текущие вопросы допускали некоторую свободу действий приказных служащих, что отмечали Н.Ф. Демидова, Н.П. Ерошкин, П.В. Седов [2; 3; 10; 11].
Такое положение требовало от правительства законодательных мер по надзору за делопроизводством и чиновниками. Данная область законодательства развивалась постепенно – по мере выявления проблем, связанных с осуществлением системы управления. Вопрос правового регулирования положения приказных служащих учеными только затрагивался.
В связи с этим целью статьи является проследить развитие правовых норм в отношении приказных служащих во второй половине XVI – начале XVII века.
Задачи: 1) установить правовое положение приказных служащих по судебникам вто рой половины XVI – начала XVII в.; 2) выявить дополнительные нормы регулирования деятельности приказных людей, зафиксированные в актовом материале.
Источниковую базу составили Судебники 1497, 1550, 1589 и 1606 гг., а также отдельные законодательные акты начала XVII века.
Прослеживая эволюцию норм права, отметим, что в Судебнике 1497 г. законодатель не предусматривал наказания для бояр и дьяков за ведение недобросовестного суда. Согласно ст. 19 (1497 г.) бояре и дьяки не привлекались к ответственности за неправомерное выполнение своих обязанностей, они должны были лишь вернуть то, что полагалось по решению суда, обратно: «А которого обвинит боярин не по суду и грамоту правую на него с диаком даст, ино та грамота не в грамоту, а взято отдать назад, а боярину и диаку в том пени нет» [13, c. 348]. Можно предположить два варианта: либо взятки еще не были распространены, либо не считались правонарушением в среде государственных служащих, так как ответственность за «посулы» не была предусмотрена.
Судебник 1550 г. развил нормы гражданского, административного и уголовного права. С первых статей речь идет об административной ответственности чиновников перед законом. Так в статьях 1–5 были установлены виды наказаний: за незаконные действия, направленные на получения взяток – ст. 3 [14, c. 233], за сознательно неправильно оформленное дело – ст. 4 [14, c. 233], за незаконное обвинение – ст. 2 [14, c. 233].
Каждому служащему в зависимости от его чина была предусмотрена своя мера наказания. Об этом свидетельствует разная административная ответственность боярина, дворецкого, окольничего, дьяка и подьячего. Согласно статьям 4 и 5 дьяки и подьячие несли более суровое наказание за совершение правонарушений. Это еще раз подчеркивает сословную направленность данного судебника. Статья 5 гласит: «А подьячий, которой запишет не по суду, а для посула без дьячего приказу, и того подьячего казнити торгового казнью, бити кнутьем» [14, c. 265]. Такую ответственность мог понести только дьяк или подьячий, а в случае, когда присутствовало нарушение закона со стороны высших чинов, назначался штраф.
Л.В. Черепнин оценил изменения в Судебнике 1550 г. как ужесточение мер наказания, произошедшее, по его мнению, из-за «восстания 1547 года и последующих народных волнений, которые вынудили государственную власть закрепить в законе ответственность за совершение должностных преступлений» [14, c. 265]. Очевидно, что данный вывод требует уточнения.
Законодатель, согласно ст. 4 (1550 г.), установил меру наказания для дьяков, взявших взятку, в виде тюремного заключения [14, c. 265], что, безусловно, является ужесточением ответственности чиновников за свои действия.
Также стоит отметить четко выраженную систему привилегий в вопросе об ответственности разных чинов перед законом. Так, в ст. 5 (1550 г.) более унизительное наказание было у низших чинов, поэтому такая ситуация создавала возможность манипуляции со стороны высших чинов [14, c. 265].
Вместе с тем указанные нововведения не сильно изменили ситуацию, хотя была установлена ответственность чиновников перед законом. Сословный принцип ответственности не мог решить проблему взяточничества. Судебник 1550 г. позволял представителям высших чинов обходить закон, а ответственности за другие правонарушения законодатель не предусмотрел. Это характеризует систему как низкоэффективную, способствовавшую боярскому произволу. Безнаказанность и чрезмерная опека со стороны государства давали высшему сословию бульшую власть.
Между тем законодательство предусматривало и правовую защиту дьяков и подьячих. Так, в ст. 6 (1550 г.) говорится о том, что никто не может клеветать на «боярина, или на околничего, или на дворецкого, или на казначея, или на дьяка, или на подьячего», если это будет доказано, то виновный будет наказан «торговою казнью бита кнутьем, да вкинута в тюрму» [14, c. 234]. Сословный принцип отражает и ст. 26: вводится понятие «бесчестье», за которое боярам, их женам и детям полагались кормления, «а дьяком полатным и дворцовым безчестье что царь и великий князь укажет, а женам их вдвое» [14, c. 238].
В дальнейшем видно, что сфера ответственности в судопроизводстве четко регламентировалась: приговор по делу выносили царь или боярин, а дьяки отвечали за верно записанные показания, достоверные подписи в документах, и в целом за оформление документов [14, c. 233].
В последующих статьях идет разделение по денежному цензу, которое позволяет определить роль каждого человека, задействованного в делопроизводстве. Так, боярин взимал пошлины за прикладывание печати к «правой» (бессудной) грамоте «по девяти денег с рубля», дьяк с подписи «с рубля по алтыну», а подьячий, который «правую» грамоту напишет, брал «с рубля по три денги» [14, c. 239]. Ведущая роль была у боярина, который рассматривал данное дело, затем шли дьяки и лишь потом подьячие, это исходит из статей 28 и 29, которые регламентировали судебный процесс [14, c. 239].
Судебник 1550 г. стал основой для Судебников 1589 и 1606 гг. Судебник Федора Ивановича 1589 г. является самым спорным из указанных документов, так как до сих пор существует два мнения о его юридической силе. Одни ученые склонны считать, что этот судебник является лишь проектом, который только собирались рассмотреть и принять в северных землях государства [1, c. 4], другие утверждают, что судебник был одобрен царем и правительством и являлся действовавшим законодательным актом [1, c. 5].
Серьезные изменения в Судебнике 1589 г. претерпевает ст. 3, которая установила фактическую ответственность судей за своих помощников. Теперь судья обязан был уплатить штраф в тройном размере, если кто-либо из его помощников возьмет «посул» [15, с. 445].
Так же произошла корректировка и ст. 6 – ужесточено наказание за лжедоносы на судей: «безчестие на нем взяти, да бити его кнутом, да вкинути в тюрму, да порука взяти, что впредь не лгати» [15, c. 414].
Ко времени появления Судебника 1589 г. приказная система в своем оформленном виде существовала уже около 30 лет, аппарат управления государством расширился, и накопившаяся практика диктовала необходимость внесения корректировок в законодательное регулирование. Общий сословный принцип в разделении ответственности тем не менее оставался прежним, что сохраняло повод для развития коррупции и взяточничества.
В тексте присяги царю Федору Борисовичу и царевне Ксении 1605 г. особо оговаривалось для подьячих «не разглашать государевы дела», не воровать деньги из государевой казны, дела «не волочиши», «и посулов, и поминков ни у кого не имати», текст «выписей» из книг не искажать [12, c. 194].
Сводный судебник 1606 г. показывает дальнейшее развитие норм русского права и закрепление привилегий дворян. В нем проведена систематизация правовых норм по тематическому принципу. Подтверждений расширенного действия Сводного Судебника пока учеными не обнаружено и его статьи могут рассматриваться как опыт кодификационной работы. Основой для данного документа послужил Судебник 1550 г. – большинство статей с их формулировками было взято именно оттуда.
Сводный Судебник 1606 г. наиболее ярко отразил правовой статус государственных служащих. Сословный принцип в нем присутствует, однако главной особенностью его является то, что положение государственных служащих, согласно ст. 2 и 3, уравнивалось: дьяки стали нести такую же ответственность, как бояре и окольничие [16, c. 483]. В данных статьях законодатель оставил меру наказания за посул в виде штрафа, отменив торговую казнь как унизительное публичное наказание для низших чинов. Вместе с тем со смягчением наказания за посулы фактически происходит возврат к нормам середины XVI века.
Государство по-прежнему защищало чиновников. Сводный Судебник давал больше поводов для посулов, чем все остальные. Смягчив наказание за взятки и оставив фактическую неприкосновенность служилым людям, государство, само того не подозревая, санкционировало коррупцию.
В первые годы правления Михаила Романова произошло возрождение приказной системы, которая в период Междуцарствия действовала на уровне ополчений и парализованного боярского правительства Москвы [8, c. 209–254]. Перед государством стояла главная задача: выйти из всестороннего кризиса. Не случайно при восстановлении прав на зем- лю и имущество признавались только те грамоты, которые были выданы до воцарения Лжедмитрия I [4].
Утвержденная грамота на царствование государя Михаила Романова 1613 г. содержит присягу в верности, в соответствии с которой служилые люди «обязуются писать без посулов, и работать в правду» [17].
Взяточничество и порой неконтролируемая деятельность приказной бюрократии продолжали процветать и представляли собой одну из главных проблем в системе реализации управленческой политики Российского государства в первые годы правления Михаила Романова.
Примеры чиновничьего произвола этого времени приведены Д.В. Лисейцевым, когда один из известных приказных служащих Петр Третьяков, глава Посольского приказа в 1613– 1618 гг., одновременно управлявший Устюжской четью, брал деньги для выплаты «праздничных дач» посольским служащим из чети. В Новгородской чети по ревизии 1621 г. было расхищено около 80 тысяч рублей [6, c. 208]. Это была огромная сумма в то время – жалование главы Новгородской чети дьяка А. Иванова, к примеру, составляло 100 рублей в год [6, c. 208–209].
Такой случай демонстрирует то, что дьяки, имея доступ к казенным деньгам, чувствовали свою безнаказанность, когда в условиях большой нехватки денег в стране они могли действовать по своему усмотрению, не имея на то царского указа.
Со стороны правительства предпринимались попытки увеличить доходы государства посредством создания новых финансовых учреждений (Кабацкий приказ, приказ Сбора запросных и пятинных денег), но данные меры не приводили к ужесточению контроля за уже существовавшими четвертными приказами.
Что касается законодательного оформления правовых норм в отношении взяток, то, как отметил П.В. Седов, лишь в Соборном Уложении появились конкретные статьи, где тема «посула» получила большее распространение с мельчайшими условиями [11, c. 149].
Таким образом, правовое положение приказных служащих менялось по мере развития законодательных норм и необходимости на высшем уровне регулировать частые случаи нару- шений исполнения должностных обязанностей. Сословный характер существовавшей системы наказаний допускал возможности произвола со стороны представителей высших чиновных кругов бояр, окольничих и детей боярских. Смутное время внесло серьезные корректировки в законодательные нормы, что в отношении приказных служащих привело фактически к возрождению системы наказаний середины XVI века. В итоге дьяки и подьячие, чувствуя свою власть и бесконтрольность, совершали финансовые хищения в центральных ведомствах, а система посулов продолжала процветать, создавая негативные черты образа приказной бюрократии.
Список литературы Правовое положение приказных служащих во второй половине XVI - начале XVII века
- Андреев, А. И. О происхождении и значении Судебника 1589 года/А. И. Андреев -Пг.: Тип. Гуттенберга, 1922. -21 с.
- Демидова, Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века и ее роль в формировании абсолютизма/Н. Ф. Демидова. -М.: Наука, 1987. -228 с.
- Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России/Н. П. Ерошкин. -М.: Высш. шк., 1968. -368 с.
- Жалованная грамота на вотчины, чины и дворянство//РГАДА. -Ф. 154. -Оп. 1. -№ 95. -Л. 1.
- Лисейцев, Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты/Д. В. Лисейцев. -М.: Гриф и Ко, 2009. -792 с.
- Лисейцев, Д. В. Четвертные приказы в России начала XVII века/Д. В. Лисейцев//Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского. -2011. -№ 3 -С. 203-210.
- Павлов, А. П. Приказы и приказная бюрократия (1584-1605 гг.)/А. П. Павлов//Исторические записки. -Т. 116. -М.: АН СССР, 1988. -189 с.
- Рыбалко, Н. В. Российская приказная бюрократия в смутное время начала XVII века/Н. В. Рыбалко. -М.: Квадрига: МБА, 2011. -512 с.
- Савосичев, А. Ю. Дьяки и подьячие XIV-XVI веков: происхождение и социальные связи: дис.... д-ра ист. наук/Савосичев Андрей Юрьевич. -Орел, 2016. -903 с.
- Седов, П. В. «На посуле, как на стуле». Из истории российского чиновничества XVII века/П. В. Седов//Звезда. -1998. -№ 4. -С. 206-214.
- Седов, П. В. Подношения в московских приказах XVII века/П. В. Седов//Отечественная история. -1996. -№ 1. -С. 139-150.
- Собрание государственных грамот и договоров: в 5 ч. Ч. 2. -М.: Тип. Селивановского, 1819. -399 с.
- Судебник 1497 г.//Памятники права периода образования Русского централизованного государства/под ред. проф. Л. В. Черепнина. -Вып. 3. -М.: Госюриздат, 1956. -529 c.
- Судебник 1550 г.//Памятники права периода образования Русского централизованного государства/под ред. проф. Л. В. Черепнина. -Вып. 4. -М.: Госюриздат, 1956. -633 с.
- Судебник 1589 г.//Памятники права периода образования Русского централизованного государства/под ред. проф. Л. В. Черепнина. -Вып. 4. -М.: Госюриздат, 1956. -633 с.
- Судебник 1606 г.//Памятники права периода образования Русского централизованного государства/под ред. проф. Л. В. Черепнина. -Вып. 4. -М.: Госюриздат, 1956. -633 с.
- Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Романова/Воспроизведена Имп. обществом истории древностей рос. при Моск. ун-те под наблюдением С.А. Белокурова. -М.: Синод. тип., 1904. -30 с.