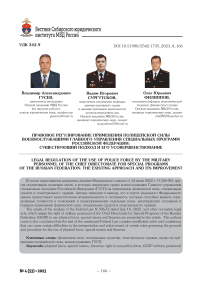Правовое регулирование применения полицейской силы военнослужащими главного управления специальных программ Российской Федерации: существующий подход и его усовершенствование
Автор: Гусев В.А., Сургутсков В.И., Филиппов О.Ю.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 4 (53), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты анализа Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 336-ФЗ, других нормативных правовых актов, в которых закреплено право военнослужащих Главного управления специальных программ Российской Федерации (ГУСП) на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Авторы приходят к выводу, что в тексте указанного Федерального закона присутствуют недостаточная упорядоченность и системность, которые способны вызвать определенные сложности в толковании и правоприменении отдельных норм, регулирующих основания и порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие, право на применение полицейской силы, военнослужащие гусп
Короткий адрес: https://sciup.org/140302444
IDR: 140302444 | УДК: 342.9 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_4_166
Текст научной статьи Правовое регулирование применения полицейской силы военнослужащими главного управления специальных программ Российской Федерации: существующий подход и его усовершенствование
14 июля 2022 г. был принят Федеральный закон N 336-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации” и статью 51 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”»1, который дополнил Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-рации»2 разделом, закрепляющим основные положения обеспечения безопасности на специальных объектах военнослужащими федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки.
Федеральными законами «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (далее – Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, Закон), «Об обороне»3 и «О воинской обязанности и военной службе»4 предусмотрен федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации. Одной из его основных задач названа организация функционирования пунктов управления государством и Вооруженными Силами Российской Федерации, иных специальных объектов мобилизационного назначения, отнесенных к его ведению, и объектов их инфраструктуры, а также поддержание специальных объектов в готовности к использованию по назначению.
В конце 2017 г. Президент Российской Федерации определил, что федеральным органом обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, в котором предусмотрена военная служба, является Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП)5. Данное ведомство, к слову, относится к федеральным агентствам, то есть, по логике, призвано в пределах своей компетенции осуществлять функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом. Вместе с тем, вопреки предложению одного из авторов реорганизовать ГУСП в службу или даже министерство с учетом «столь масштабного подхода законодателя к видовому разнообразию функций» данного федерального органа исполнительной власти [4, с. 19], полагаем, что этот факт отнюдь не свидетельствует об ошибке в определении наименования ведомства, а лишь в который раз диагностирует наметивший в последние годы отход от, казалось бы, строгих нормативно установленных6 функциональных разграничениях между федеральными министерствами, службами и агентствами.
Отметим, что военнослужащие различных родов войск выполняют боевые и иные возложенные на них задачи на основании уставов, закрепляющих, право на хранение, ношение, применение и использование оружия. Так, в соответствии с п. 13 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации условия и порядок применения его военнослужащими определяются данным Уставом, Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, Корабельным уставом Военно-Морского Флота и Уставом военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации7.
Необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 4 ст. 1 Федерального закона от
27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащие имеют право на хранение, ношение, применение и исполь-зование1 оружия в порядке, определяемом федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. К таким основным законодательным актам следует отнести федеральные законы: от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»2, от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ «О государственной охране»3, от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне»4 и от 3 июля 2016 г. N 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»5.
По мнению законотворцев, специфика охраняемых военнослужащими объектов обуславливает потребность установления оснований, порядка и условий применения оружия, отличного от предусмотренного в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации6. Обязательно также нужно принимать во внимание, что обеспечение эффективной охраны специальных объектов и объектов их инфраструктуры должно достигаться не только предоставлением права и установления оснований, порядка и условий применения оружия, осуществляющим данную охрану военнослужащим, но и предоставлением им права применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, а также регламентацией порядка реализации данного права. Законодательно до принятия соответствующих дополнений в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации данные вопросы урегулированы не были.
Такой подход к закреплению оснований и порядка применения силы и оружия, по нашему мнению, обусловлен наделением данных милитаризованных государственных органов рядом специальных задач и полномочий правоохранительной (полицейской) направленности. И это не удивительно, поскольку, как отмечает профессор Ю.П. Соловей в одной из наиболее известных научных работ: «Правда состоит в том, что социальная роль милиции, как, впрочем, и органов безопасности, внутренних войск, ряда государственных инспекций, служб, реализующих полицейскую функцию государства, не может быть правильно понята вне ее полномочий прибегать в случае крайней необходимости к физическому принуждению» [9, с. 106].
Решая задачи, закрепленные в ст. 24.1 Закона, военнослужащие ГУСП реализуют полномочия по обеспечению безопасности посредством установления пропускного и внутриобъектового режима на специальных объектах, реализацией права приостанавливать производство работ и осуществление какой-либо деятельности, угрожающих безопасности данных объектов, а также пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях охраны таких объектов, а также осуществление мер по обеспечению собственной безопасности. При этом военнослужащие при осуществлении охраны и защиты специальных объектов и объектов их инфраструктуры, обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов на этих объектах имеют право на применение мер непосредственного (силового) принуждения, проведение досмотровых мероприятий и осуществление административного задержания. В этой связи не понятно, почему в ст. 19.3 КоАП РФ до сих пор не включен юридический состав, предусматривающий административную ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации в связи с исполнением им обязанности по осуществлению охраны и защиты специальных объектов и объектов их инфраструктуры, обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов на этих объектах или воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей. Общественно опасный, грубый характер описанного противоправного деяния не вызывает сомнений, поэтому административное наказание должно быть адекватным и отвечать требованиям эффективности профилактического воздействия на лицо, привлеченное к административной ответственности с последующим отказом от совершения аналогичных правонарушений [3, с. 58].
Законодатель предусмотрел наличие аналогичных полномочий по применению мер государственного принуждения у органов федеральной службы безопасности, государственной охраны, службы внешней разведки, войск национальной гвардии. Схожие полномочия возложены и на должностных лиц органов, традиционно реализующих полицейские функции, прежде всего к ним относятся структурные подразделения МВД России, ФСИН России, ФССП России, ГФС России. Данное обстоятельство связано, в первую очередь, с наделением различных военизированных государственных органов, помимо боевых, правоохранительными (полицейскими) задачами, решение которых направлено на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Еще в период действия Федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»1 п. 1 ч. 1 ст. 2 закреплял основную задачу рассматриваемого рода войск, а именно: участие совместно с органами внутренних дел Рос- сийской Федерации в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения, что нашло отражение и в Федеральном законе «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», обязывающим в п. 1 ч. 1 ст. 2 военнослужащих Росгвардии участвовать в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
Для решения названных задач военнослужащие Росгвардии наделены, помимо прочего, правом применения мер полицейского принуждения: доставлять граждан для решения вопроса о его задержании, производить административное задержание и досмотровые мероприятия, в том числе в пунктах пропуска, а также применять физическую силу, специальные средства и технику, огнестрельное оружие.
Подобная взаимосвязь прослеживается и в законах, определяющих правовой статус военнослужащих Федеральной службы безопасности и военной полиции.
Таким образом, можно сделать вывод о корреляции полицейских полномочий и методов полицейской деятельности внутри так называемого силового блока федеральных органов исполнительной власти. В первую очередь, речь идет о полномочиях на применение полицейской силы, под которой мы понимаем совокупность методов деятельности органов правопорядка, государственной и общественной безопасности по непосредственному ограничению естественных прав и свобод граждан на основании закона с помощью физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. При этом заметим, что характер вооруженной деятельности военнослужащих ГУСП наиболее близок несению караульной службы сотрудниками подразделений охраны ФСИН России, обеспечивающих функционирование и безопасность исправительных учреждений уголовно-исполнительной службы с оружием, постоянно готовыми применить его в случае возникновения экстраординарной (экстремальной) ситуации [7, c. 56; 8, с. 219].
Право военнослужащих ГУСП на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, основания и порядок применения ими этих мер принуждения закреплены в п. 1 ч. 2 ст. 24.2 и ст. 24.3 Закона. Последняя устанавливает порядок действий должностных лиц при применении силы и оружия, запреты на их применение, а также гарантии личной безопасности вооруженного военнослужащего, основания применения специальных средств и оружия. Профессор В.М. Корякин, анализируя аналогичные нормы о порядке применения полицейской силы, принятые в отношении других государственных военизированных структур, с положительной стороны отмечает унификацию правового регулирования в данной сфере [5, с. 19]. Полагаем, что, несмотря на стремление законодателя продемонстрировать единый подход к толкованию установленных в Законе положений о применении полицейской силы, в нем все же имеется ненадлежащая нормативная определенность, способная вызвать затруднения в правоприменительной практике военнослужащих ГУСП.
Как справедливо отмечается в специальной юридической литературе, военнослужащие на основании приказов своих командиров (начальников) не только могут, но и обязаны применить физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие [10, с. 106; 1, с. 92]. Такой императивный административный акт командиры (начальники) издают не только на основании п. 13 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. В нормативных правовых актах более высокой юридической силы – Федеральном законе «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», Федеральном законе «О федеральной службе безопасности» – закреплено право командиров (начальников) отдавать соответствующие приказы. Полагаем целесообразным и вполне последовательным продолжением приведения к единой форме правового регулирования внесение соответствующих дополнений в ст. 24.2 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.
Часть 11 ст. 24.3 Закона содержит пять оснований применения специальных средств военнослужащими ГУСП (для сравнения ст. 21 Федерального закона «О полиции» содержит 12 таких оснований). Видимо, по замыслу законодателя, этих оснований вполне достаточно для решения задач по обеспечению безопасности охраняемых специальных объектов.
Норма видится достаточно усеченной и не отражающей все возможные случаи, предоставляющие право военнослужащим применять специальные средства. Во-первых, военнослужащие ГУСП не имеют право применять специальные средства для отражения нападения на них или нападения на граждан, при отсутствии непосредственной угрозы их жизни или здоровью, для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование сотрудника полиции об остановке, а также для защиты охраняемых объектов.
Полагаем, что военнослужащие, обеспечивающие безопасность специальных объектов, столкнувшиеся с подобными ситуациями, давая им правовую оценку, будут поставлены в затруднительное положение при выборе средств противодействия противоправным деяниям.
Еще одним существенным пробелом Закона является отсутствие перечня специальных средств состоящих на вооружении органов обеспечения мобилизационной подготовки. Федеральный закон «О полиции» и Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» содержит подобный перечень с ссылкой на конкретные обстоятельства, при возникновении которых возникает право на их применение. Какие специальные средства будут применять военнослужащие ГУСП, остается неизвестным. Кроме того, отсутствие перечня используемых военнослужащими ГУСП специальных средств не позволяет сформулировать и закрепить в законе норму, запрещающую или ограничивающую применение конкретных специальных средств в определенных случаях.
Не менее серьезные проблемы вызывает применение огнестрельного оружия воен- нослужащими ГУСП. Согласно ч. 12 ст. 24.3 Закона они имеют право применять оружие:
-
1) в случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации;
-
2) в соответствии с пп. 1-4 ч. 12 ст. 24.3 Закона.
Таким образом, военнослужащие ГУСП имеют право применять оружие в следующих случаях:
-
1) для отражения вооруженного либо группового нападения на охраняемые государственные и военные объекты, а также на расположения воинских частей и подразделений, здания и сооружения воинских частей, воинские эшелоны, колонны машин, единичные транспортные средства и караулы, если иными способами и средствами их защитить невозможно;
-
2) для пресечения попытки насильственного завладения вооружением и военной техникой, если иными способами и средствами их защитить невозможно;
-
3) для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если иными способами и средствами защитить их невозможно;
-
4) для задержания лица, совершившего противоправные действия и оказывающего вооруженное сопротивление, а также вооруженного лица, отказывающегося выполнить законные требования о сдаче оружия, если иными способами и средствами подавить сопротивление, задержать данное лицо или изъять у него оружие невозможно;
-
5) для задержания на охраняемых специальных объектах и объектах их инфраструктуры лиц, застигнутых при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающихся скрыться либо оказывающих вооруженное сопротивление;
-
6) для производства предупредительного выстрела путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении;
-
7) для пресечения попыток лиц незаконно проникнуть на охраняемые специальные объ-
- екты и объекты их инфраструктуры и места несения службы военнослужащими, если невозможно пресечь эти попытки иным способом;
-
8) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве если прекратить их нахождение в воздушном пространстве иным способом не представляется возможным.
Кроме того, в соответствии с пп. 2 п. 14 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие имеют право использовать оружие для подачи сигнала тревоги или вызова помощи, а также против животного, угрожающего жизни или здоровью людей.
Анализ закрепленных оснований применения указанными должностными лицами оружия позволяет выявить некоторые проблемные вопросы, с которыми может столкнуться правоприменитель.
Военнослужащий ГУСП не вправе применить огнестрельное оружие:
-
1) для освобождения заложников. Не трудно представить ситуацию, когда незаконно проникнувшие на территорию специального объекта лица в преступных (террористических) целях, а иногда в целях избежать задержание используют захват заложников. Как представляется, в данном случае самостоятельно разрешить данную проблему без Росгвардии и полиции не представляется возможным;
-
2) для остановки транспортного средства. Отметим, что по данному основанию военнослужащие имеют право применить специальную и боевую технику, что значительно сужает их возможности;
-
3) для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в помещения охраняемого объекта. Специфика службы военнослужащих ГУСП, их задачи и функции не связаны с необходимостью пресечения преступлений и задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, спасения граждан и установления обстоятельств несчастного случая в жилых и иных помеще-
- ниях, на земельных участках и территориях, а значит, не требуется предоставления права проникать в них в принудительном порядке и применять оружие как средство такого проникновения.
Вместе с тем не исключаются случаи, когда лицо, проникшее на охраняемый объект, может оказаться в служебном помещении, воспрепятствовать свободному доступу в него и осуществлять преступную деятельность (в том числе подготавливать террористический акт). В этом случае действовать по пресечению преступления необходимо оперативно. Однако быстро проникнуть в помещение без разрушения запирающих устройств, в том числе с применением оружия, крайне затруднительно;
-
4) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и граждан. По замыслу законодателя военнослужащие, обеспечивающие безопасность специальных объектов, для отражения такого нападения на охраняемые объекты и объекты их инфраструктуры, а также для их освобождения имеют право применять исключительно военную и специальную технику.
Пункт 9 ст. 24.3 Закона о мобилизационной подготовки и мобилизации, в отличие от соответствующих норм Федерального закона «О полиции» и Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», по сути, объединил две нормы, взяв за основу традиционные запреты на их применение. Анализ статей норм, закрепляющих данные запреты, позволяет сделать вывод, что военнослужащие ГУСП и Росгвар-дии имеют существенный приоритет в правах на применение полицейской силы, так как имеют право в отличие от сотрудников полиции применять оружие в отношении женщин, не имеющих признаков беременности или в отсутствие информации о таковой, и несовершеннолетних, не относящихся к категории малолетних, а также при значительном скоплении людей в целях отражения группо- вого или вооруженного нападения на охраняемые специальные объекты и объекты их инфраструктуры. Примечательно, что в соответствии с п. 13 Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации применяются и иные запреты на применение именно огнестрельного оружия, идентичные запретам на его применение сотрудниками полиции.
Таким образом, поиск нормотворцем новых форм законодательных технологий, попытку минимизировать и упростить содержательную часть нормативных документов можно только приветствовать, однако следует подходить к данному процессу вдумчиво, с учетом наработанной практики разработки и принятия законодательных актов, а также единообразной судебной практики. В противном случае можно получить прямо противоположный эффект, когда правоприменитель в условиях правовой неопределенности, но подсознательно уверенный в правомерности своих действий применяет силу и оружие, а затем уже следственные и судебные инстанции неторопливо и обстоятельно начинают подвергать сомнению право должностного лица, применившего меры непосредственного принуждения на усмотрение, что нередко приводит к обвинительному приговору в отношении него [6, 2].
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации” и статью 51 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”», безусловно, имеет важное значение, он внес необходимые дополнения, позволяющие более эффективно выполнять задачи по охране и защите специальных объектов и объектов их инфраструктуры, обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на этих объектах.
Вместе с тем, по нашему мнению, в структуре нормы, закрепленной в статье 24.3 Закона, регулирующей применение физической силы, специальных средств, оружия, военной и специальной техники военнослужащими ГУСП, присутствует недостаточная упорядоченность и системность, способная вызвать определенные сложности в толковании и правоприменении. Данная норма не отражает в полной мере потребности военнослужащих ГУСП и требует внесения в нее соответствующих изменений и дополнений.
Список литературы Правовое регулирование применения полицейской силы военнослужащими главного управления специальных программ Российской Федерации: существующий подход и его усовершенствование
- Ветошкин, П.А. Направления совершенствования правового регулирования применения оружия военнослужащими пограничных органов / П.А. Ветошкин // Военное право. - 2020. - N 4 (62). - С. 91-95. EDN: IQSLTU
- Каплунов, А.И. О правомерности применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия для остановки транспортного средства / А.И. Каплунов // Административное право и процесс. - 2015. - N 4. - С. 36-41. EDN: TPFSYX
- Карнаухов, О.П. Отдельные вопросы и перспективы совершенствования правовой защищенности сотрудников полиции при применении огнестрельного оружия / О.П. Карнаухов // Алтайский юридический вестник. - 2021. - N 2 (34). - С. 55-59. EDN: ILVGNU
- Киселева, Н.В. Правовое положение Главного управления специальных программ Президента РФ / Н.В. Киселева // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. - 2020. - N 1. - С. 14-19. EDN: ZXWXGH
- Корякин, В.М. Обеспечение безопасности пунктов управления государством и Вооруженными Силами Российской Федерации, иных специальных объектов мобилизационного назначения / В.М. Корякин // Военное право. - 2022. - N 5 (75). - С. 15-20. EDN: LJUKNE
- Курсаев, А.В. Грани правомерного и уголовно-наказуемого применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (по материалам судебной практики) / А.В. Курсаев // Актуальные проблемы государства и права. - 2022. - Т. 6. - N 3 (23). - С. 349-361.
- Мазеина, О.Н. О некоторых проблемах применения огнестрельного оружия сотрудниками подразделений охраны ФСИН России / О.Н. Мазеина, А.М. Лысухин // Вестник Кузбасского института. - 2020. - N 1 (42). - С. 51-59. EDN: NHHIGG
- Михайлиди, С.М. К вопросу о применении сотрудниками подразделений охраны ФСИН России огнестрельного оружия при выполнении служебных задач / С.М. Михайлиди, В.И. Николаев // Право и государство: теория и практика. - 2022. - N 2 (206). - С. 219-220.
- Соловей, Ю.П. Правовое регулирование применения милицией силы / Ю.П. Соловей // Государство и право. - 1993. - N 4. - С. 106-116. EDN: RZEIHD
- Шербак, С.И. О праве представителей власти на применение огнестрельного оружия / С.И. Щербак // Военное право. - 2018. - N 5 (49). - С. 101-110.