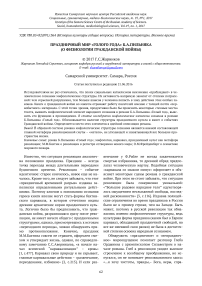Праздничный мир "Голого года" Б.А. Пильняка (о физиологии Гражданской войны)
Бесплатный доступ
Исследователями не раз отмечалось, что эпохи социальных катаклизмов неизменно «пробуждают» в человеческом сознании мифологические структуры. Их активность напрямую зависит от степени потрясений: чем серьезней разрушения, тем больше шансов у человека попасть в зону действия этих особых законов. Книги о гражданской войне во многом отражают работу писателей именно с толщей почти «первобытного» материала. С этой точки зрения, продуктивно было бы прояснить некоторые «темные места» текста, выявить мифологический элемент народного сознания в романе Б.А.Пильняка «Голый год», выяснить его функцию в произведении. В статье исследуются мифологические элементы сознания в романе Б.Пильняка «Голый год». Обосновывается наличие структуры праздничного культа в книге о событиях Гражданской войны. Определяется место этих элементов в идейной оппозиции романа. Вывод. В образной системе романа мифологические структуры сознания являются важной составляющей главной метафоры революционной смуты - «метели», не утихающей и захватывающей все большие пространства жизни.
Роман б.пильняка "голый год", мифология, карнавал, праздничный культ как метафора революции, м.м.бахтин о революции в регистре сотворения нового мира, о.м.фрейденберг о семантике мирового пожара
Короткий адрес: https://sciup.org/148102461
IDR: 148102461 | УДК: 930.85+82(091):364
Текст научной статьи Праздничный мир "Голого года" Б.А. Пильняка (о физиологии Гражданской войны)
Известно, что ситуация революции аналогична положению праздника. Праздник – всегда точка перехода между длительными периодами будничного времени. Революция – событие идентичное: старое кончилось, новое еще не началось. Кроме того, не следует забывать, что этот «праздничный временной разрыв» издавна заполнялся определенными ритуальными действиями. Поэтому ключом к пониманию сознания героев книги вполне могут стать формы бахтинского карнавала, в котором отчетливо видны древние архаические корни праздничного культа. Логично было бы предположить, что гражданская война, разразившаяся сразу после революции, не имеет ничего общего с праздничными структурами, однако, присмотревшись к истокам «переходного периода», можно обнаружить прямо противоположное. Конечно, праздник М.М.Бахтина совсем не страшен, оформлен смехом и утверждает жизнь, однако, по справедливому замечанию С.С.Аверинцева, «в начале начал всяческой “карнавализации” – кровь» [1, c.477]. Карнавал свою природу и не скрывает, главные карнавальные действия – «развенчание, переодевание, избиение» [2, c.215]. И если раз- венчание у Ф.Рабле не всегда заканчивается смертью избранника, то древний обряд предполагал человеческую жертву. Подобная ситуация «карнавала со знаком минус» оформляет и объясняет некоторые сцены романа о гражданской войне. При этом не стоит забывать, что ситуация революции была совершенно уникальной: «”Большое родовое народное тело” одухотворялось ощущением неслыханной свободы, последней раскованности» [3, c.116]. Издавна полицейские ограничения во время праздников в России были не в пример строже, чем на Западе. Быть может, поэтому в русской революции так обнажились именно мифологические структуры, ведь культурная форма праздника (каким был в Европе карнавал, обладавший праздничной свободой, но все же имевший свои рамки) не была в достаточной степени освоена народным сознанием.
Обнаружить «праздничное» и «непраздничное» мироощущение помогает разговор Глеба Ордынина с архиепископом Сильвестром в начале романа. Глеб в революции увидел высокое стремление к всеобщему преображению, но испугался, он не понимает революционного хаоса: «…я хочу чистоты, правды,– Бога, веры, спра- ведливости непреложной… Зачем кровь?» [4, c.377]. Глеб получает странный, с точки зрения обыденного сознания, ответ: «А, а, без крови? – все кровью родится, все в крови, в красной! И флаг красный! Все спутал, перепутал, не понимаешь!..» [4, c.378]. Так отвечает родственник Глеба, «безумный старик», по определению автора. Но безумие здесь иное: разум старика сошел с «рельсов» обыденного сознания, попав в водоворот мышления мифологического. Объяснение странной фразы можно найти в книге М.М.Бахтина о Рабле: «…первая смерть (по библейскому сказанию, смерть Авеля была первою смертью на земле) обновила плодородие земли, оплодотворила ее… Смерть, труп, кровь, как семя, зарытое в землю, поднимается из земли новой жизнью, – это один из древнейших и рас-пространеннейших мотивов» [2, c.351]. А революция как раз воспринималась в регистре сотворения нового мира, поэтому кровь, которая должна была обагрить землю, воспринималась мифологическим сознанием естественно, являясь закономерной необходимостью, оплодотворяющим началом новой жизни.
Подобное мышление становится определяющим и для народной среды, например, в третьей главе герои романа слышат загадочный разговор сидящих у костра мужиков: «Народ рылу свою покажет, показал,– бунт! Мы молчим, а что молчим, знаем, что молчим! Огонь: он красный, кровь красная,– где огонь, там и кровь. Мы молчкем, мы молчкем!..» [4, c.406]. Если не принимать во внимание символику крови, оплодотворяющей мир и землю, то реплика вроде бы лишена смысла. Однако здесь кровь сравнивается с огнем, важным древним символом. О.М.Фрейденберг в книге «Поэтика сюжета и жанра» рассказывает о мифе, в котором Тантал, греческий герой, готовит для богов особое мясное блюдо, их собственного сына. После трапезы боги, узнав, кого съели, оживляют сына, но впоследствии (этого бога зовут Пелопс) собственные дочери «разняли его на части, сварили и возродили» [5, c. 61], правда, уже с конкретной целью омоложения. «Самый огонь – алтаря, костра или печи – получил семантику того начала, которое родит и оживляет… Отсюда же и семантика мирового пожара, который перерождает и обновляет вселенную» [5]. Таким образом, согласно мифологическому сознанию, тотальное разрушение в революции имеет свой смысл и поэтому одобряется.
Стоит обратить внимание еще на один важный элемент праздника. Поскольку «моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении» [2, c.17], нельзя обойти и сексуальный компонент. Об архаичных обычаях, действующих в праздничное время, известно из записей в Стоглаве: «Русалии о Иванове дни и в навечерии Рождества Христова и крещения сходятся мужи и жены и девицы на нощное плещевание и на бесчинный говор и на бесовские песни и на пляски и на скакания и на богомерзкие дела, и бывает отроком осквернение и девам растление» [6, c. 141].
Для праздников подобные ситуации довольно естественны, нет жестких рамок поведения, и то, что наказуемо в обычные дни, в праздничное время становится возможным. С этими структурами в романе связано одно из самых жестких столкновений мифологического сознания с обычным: заградотряд останавливает поезд, везущий хлеб в город, и солдаты требуют – к ним должны прийти женщины из вагонов. К решившимся подбегает веселый «парнишка в распоясанной гимнастерке», подстегнутый праздничным ощущением, вытесняющим состояние рефлексии: “А, бабы! Натерпелися?! Бабов нам надо – по первое число!.. Да вас целое стадо?.. Выбирай, бабы, десятка полтора, которые по-краше. Да – мотри! – чтобы здоровы!..”» [4, c.454] Праздник ведет себя экспансивно, распространяясь вширь, и превращается для женщин в акт ущемления их свободы, надругательства над ней. Распустившиеся «нормы» вступают в контакт с традиционными ценностями, ни с чем не считаясь. Древняя мифология праздника упрощает процесс освобождения человека от сковывающих его рамок традиции, а сама праздничная модель становится эталоном поведения, проявлением особой витальности.
Впрочем, экспансия проходит и на других уровнях. В частности, «праздничное сознание» захватывает территорию внутреннюю, оно пробуждается в головах образованных, интеллигентных людей. Так, лежащий на полу теплушки человек сначала обретает неземное прозрение: «…упасть, подкошенному сном, прижаться к человеку – кто он? почему он? сифилитик? сыпнотифозный? Греть его и греться человеческим его телесным теплом» [4, c.445]. А когда видит женщину, ему открывается прямо противоположное: «…сердце человека сщемило безмерною сладкою болью, звериным,– хотелось кричать, бить, броситься к первой женщине, быть сильным безмерно и жестоким, и здесь, при людях, насиловать, насиловать, насиловать! Мысль, благород- ство, стыд, стоицизм – к черту! Зверь!» [4, c. 446]. Прорывается мощное, первобытное желание, оставившее позади культурный «налет». Любопытно здесь использование слова «зверь», оно точно подходит к ситуации, однако лишь данным смыслом не исчерпывается. В современных исследованиях по антропологии выдвигаются теории, указывающие на существование в воспитательной системе древних обществ своеобразных «звериных институтов»: «…в общей для всех индоевропейцев (и, вероятно, не только для них) системе воспитания и перехода из одного социально-возрастного класса в другой всякий мужчина непременно должен был пройти своеобразную “волчью” или “собачью” стадию» [7, c.339]. Этим стадиям была свойственна определенная норма поведения, отличная от обыденной, юноши и мужчины с волчьим статусом проживали за пределами культурного пространства в так называемой мертвой, хтонической зоне, всячески оберегая зону культурного быта от опасностей извне. Поэтому логично предположить, что «зверства» могли твориться именно ими, в сущности, члены волчье-песьего братства в этот период своей жизни людьми не считались.
Праздник – это соприкосновение со сферой сакральной, с миром идеальным. Тем удивительнее обнаружить, что в ситуации гражданской войны все «празднующие» герои, действительно находятся в сфере идеального. Они освобождены от обычных ценностей, не тяготятся своим положением, ибо погружены в мифологическую культурную модель, которая подспудно все объясняет. В сущности, они растворились в народном бессмертном теле. Кроме того, пространство войны – это пространство знаменитого бахтинского фамильярного контакта – здесь все могут встретиться со всеми. Другое дело, что этот опыт непраздничному человеку обходится очень дорого.
Итак, в образной системе романа мифологические структуры сознания являются важной составляющей главной метафоры революционной смуты – «метели», не утихающей и захватывающей все большие пространства жизни. А следствием этой разгулявшейся стихии становится ситуация, о которой горько высказывается один из героев книги: «Жутко! Вы чувствуете, какая жуть! – какая жуткая, глухая тишина. Взгляните – естественнее смерть, чем рождение, чем жизнь» [4, c.397].
-
1. Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М.Бахтин: pro et contra: антология: в 2 томах, том I. СПб., Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-та, 2001. 552 с.; О «темной природе» бахтинского праздника пишет и Б.Гройс (Гройс Б. Тоталитаризм карнавала // Бахтинский сборник / отв. ред. В.Л.Махлин. М., Изд-во Лабиринт,1997. Вып. 3. С. 76–80).
-
2. Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. IV. Кн. 2. М., Языки славянских культур, 2010. С. 215.
-
3. Скобелев В.П. Масса и личность в русской советской прозе 1920-х годов (к проблеме народного характера). Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1975. С. 116.
-
4. Пильняк Б.А. Повесть непогашенной луны: рассказы, повести, роман. М., Правда, 1990. 480 с. Серия «Библиотека журнала ”Знамя”». С. 377.
-
5. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / подготовка текста и общая редакция Н.В.Брагинской. М., Изд-во “Лабиринт'”, 1997. С. 61.
-
6. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования). СПб., Изд-во Терра-Азбука, 1995. C. 141.
-
7. Михайлин В. Тропа звериных слов: пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. М., Изд-во Новое литературное обозрение, 2005. C. 339.
FESTIVE WORLD OF «THE NAKED YEAR» (ABOUT THE PHYSIOLOGY OF THE CIVIL WAR)
Gennadiy S. Zharnikov, postgraduate of the Dept. of Russian and Foreign Literature and Public Relations.
Samara University. Samara, Russia
Researchers noted a number of times that era of social catastrophes always evoke mythological patterns in human consciousness. Their actions directly depend on the degree of shock: the more serious the destruction, the more chances of people to get into an area of effect of these particular laws. Books about the civil war are largely a reflection of the writers’ work with a plenty of almost “primitive” material. From this point of view, it would be productive to explain some confusions of the text, to identify the mythological element of national consciousness in a novel «The Naked Year» by B.A.Pilnyak, and to find out its function in the novel. The article explores the mythological elements of consciousness in the novel “The Naked Year” by B.A.Pilnyak. The existence of the structure of the festive cult in the book about the events of the Civil war is substantiated. And the place of these elements in the ideological opposition of the novel is determined.
Conclusion. The mythological structure of consciousness is an important part of the main image of the revolutionary turmoil in metaphorical system of the novel. It reminds a “snowstorm”, which is not subsides and captures all the large living spaces.
Список литературы Праздничный мир "Голого года" Б.А. Пильняка (о физиологии Гражданской войны)
- Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура//М.М.Бахтин: pro et contra: антология: в 2 томах, том I. СПб., Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-та, 2001. 552 с.
- Гройс Б. Тоталитаризм карнавала//Бахтинский сборник/отв. ред. В.Л.Махлин. М., Изд-во Лабиринт,1997. Вып. 3. С. 76-80.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. IV. Кн. 2. М., Языки славянских культур, 2010. С. 215.
- Скобелев В.П. Масса и личность в русской советской прозе 1920-х годов (к проблеме народного характера). Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1975. С. 116.
- Пильняк Б.А. Повесть непогашенной луны: рассказы, повести, роман. М., Правда, 1990. 480 с. Серия «Библиотека журнала "Знамя"». С. 377.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра/подготовка текста и общая редакция Н.В.Брагинской. М., Изд-во "Лабиринт'", 1997. С. 61.
- Пропп В.Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования). СПб., Изд-во Терра-Азбука, 1995. C. 141.
- Михайлин В. Тропа звериных слов: пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. М., Изд-во Новое литературное обозрение, 2005. C. 339.