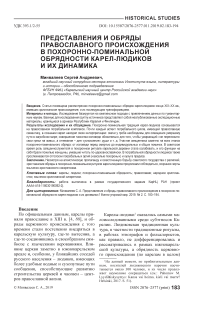Представления и обряды православного происхождения в похоронно-поминальной обрядности карел-людиков и их динамика
Автор: Минвалеев Сергей Андреевич
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена рассмотрению похоронно-поминальных обрядов карел-людиков конца XIX-XX вв., имевших христианское происхождение, и их последующим трансформациям. Материалы и методы. Исследование базируется на комплексном подходе с привлечением данных по гуманитарным наукам. Важную для исследования группу источников представляют собой неопубликованные экспедиционные материалы, хранящиеся в архивах Республики Карелия и Финляндии. Результаты исследования и их обсуждение. Похоронно-поминальная традиция карел-людиков основывается на православном погребальном комплексе. Почти каждый аспект погребального цикла, имеющий православную семантику, в сознании карел находил свою интерпретацию: свечи у гроба необходимы для освещения умершему пути в загробном мире; совершение таинства исповеди обязательно для того, чтобы умирающий «не переложил» свои грехи на живых, а отпевания - для «успокоения» души и т. д. Участие священника заметно на всех этапах похоронно-поминального обряда: от исповеди перед смертью до индивидуальных и общих поминок. В советское время роль священнослужителя в похоронном ритуале карельской деревни стала ослабевать, и его функции на себя брали пожилые женщины, умевшие читать по-церковнославянски. В погребальной обрядности людиков также прослеживаются отголоски погребальных оргий («веселые похороны») и культа предков. Заключение. Несмотря на атеистическую пропаганду и ожесточенную борьбу советского государства с религией, христианские обряды в похоронно-поминальном ритуале карел-людиков продолжали соблюдаться, сохраняя черты языческо-христианского синкретизма.
Карелы, людики, похоронно-поминальная обрядность, православие, народное христианство, языческо-христианский синкретизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147217917
IDR: 147217917 | УДК: 393.1/2-55 | DOI: 10.15507/2076-2577.011.2019.02.183-194
Текст научной статьи Представления и обряды православного происхождения в похоронно-поминальной обрядности карел-людиков и их динамика
По официальным данным, карелы приняли православие в XIII в. [4, 88 ], и обряды церковного происхождения с того времени стали постепенно внедряться в карельскую культуру, где-то вытеснив, а где-то соединившись в своеобразном симбиозе с языческими верованиями. Влияние церкви заметно в южнокарельском ареале и, особенно, у ближайших соседей русского населения – людиков, имеющих более удобные водные и сухопутные пути сообщения, способствующие развитию строительства церквей и часовен – центров православной жизни.
Карелы-людики1 оказались самыми малоисследованными среди субэтносов Карелии. Людиковская традиционная культура, в частности традиционные ритуалы, в работах этнографов и фольклористов, как правило, не дифференцировались и рассматривались в рамках южнокарельской культуры, а обрядность церковно го проис хождения (по карелам в целом)
® ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ оценивалась однобоко, игнорировалась или отрицалась [19]. Объяснялось это тем, что в советский атеистический период в науке тема православия находилась под запретом, исследователи старались обходить стороной обряды христианского происхождения у различных народов: «В результате последовательного изгнания православия со страниц историко-этнографических исследований не только образовалась лакуна, но сформировалась ложная модель народной культуры. Тенденциозное выпячивание языческих элементов при замалчивании христианских основ духовной жизни народа породило теорию двоеверия, понятие “бытовое православие” и пр.» [3, 60 ].
Выбор данного предмета исследования объясняется тем, что похоронно-поминальная обрядность представляет собой одну из наиболее устойчивых к изменениям сфер традиционной культуры. О древних элементах погребения и поминовения усопшего до сих пор помнят жители людиковских деревень, родившиеся в 1930-е гг., поэтому исследовательскими рамками был охвачен довольно длительный период – конец XIX–XX вв. Строгое соблюдение церковного канона также благоприятствовало сохранению многих традиционных похоронных обрядов.
Обзор литературы
Основой для исследования послужила литература, затрагивающая карельскую похоронно-поминальную обрядность, в том числе людиковскую [5; 7 и др.]2, а также источники по погребальным обрядам соседних народов – русских Карелии [8; 9] и вепсов [16 и др.]. Особой значи- мостью при изучении ритуалов обладают лингвистические данные. Это прежде всего лексика, обозначающая предметные компоненты обрядов, содержащиеся в словарях3, а также публикации образцов речи, которые представляют собой максимально точные записи устных сообщений информантов с информацией по похоронно-поминальному циклу, а также терминами, характерными для соответствующей местности4.
Среди карел, как и среди других народов, исповедующих православие, сформировалась «неофициальная» интерпретация ритуалов и священных текстов, обозначаемая в науке как бытовое , или народное , христианство [1, 9 ]. Поэтому для нас важно было обратиться к литературе, связанной с тематикой народного христианства и языческо-православного синкретизма [1; 2; 6]5. Для описания канонов и объяснения различных аспектов непосредственно православного погребального обряда были использованы церковная просветительская литература и ин-тернет-источники по теме6.
Материалы и методы
В работе применялись следующие классические методы этнографического исследования: дескриптивный, полевой и сравнительно-исторический. Дескриптивный метод заключается в создании научного текста на основе синтеза различных источников. Однако, основываясь только на рассмотренной выше литературе, создать детальное описание и провести сравнительно-исторический анализ православного погребального обряда, существовавшего на территории карел-людиков, явно не получится. Поэтому наряду с печатными изданиями хорошую помощь в настоящей работе оказали и неопубликованные источники. Это архивные и полевые материалы различных собирателей, в том числе наши, хранящиеся в Научном архиве Карельского научного центра РАН (НА КарНЦ)7, Фонограммархиве Института языка литературы и истории КарНЦ РАН (ФА)8 и Фольклорном архиве Финского литературного общества (SKS)9. Сбор полевых материалов осуществлялся автором с помощью методов непосредственного наблюдения и интервью по специально подготовленному развернутому вопроснику. Достоверность полученных сведений проверялась повторными и дополнительными опросами, сравнением с имеющейся в других источниках информацией, в частности с материалами архивов.
Сравнительно-исторический метод был необходим для выявления сходных и отличительных черт в культуре карел-лю-диков в сравнении с соседними народами (русских, вепсов, других этнолингвистических групп карел Республики Карелия) в рассматриваемый период, что позволяет выявить их динамику.
Результаты исследования и их обсуждение
Погребение умершего (люд. pokoinik – Уссуны, Тивдия, Спасская Губа, pokoinikke – Пряжа, Лижма, pogoiniekku – Михайловское; также на территории проживания карел-людиков встречается более древнее прибалтийско-финское название kuolʼii ‘мертвый’)10, начиналось с важнейшего обряда – омовения, которое спешили совершить, пока тело умершего не окостенело. Смысл обряда заключался в очищении: «...в загробный мир не положено вно- сить “грязь земной жизни”» [17, 64–65]. В христианском понимании чистота тела символизирует чистоту и непорочность праведников в Царстве Божьем11. То же касается погребальной одежды – она должна быть чистой, неношенной, поверх одежды тело накрывали «саваном» (белым покровом) «в знак того, что умерший, при своем крещении, дал обет проводить жизнь в чистоте и святости»12.
Омовением тела занималось обычно несколько пожилых женщин13, чье участие также вписывалось в очищающую семантику обряда. Старость участниц обряда и их социальный статус – как правило, вдовство – по народным определениям означали, что они «чистые», т. е. не живущие половой жизнью. Приглашение пожилых женщин на омовение, а также вдов и старых дев, было характерно и для северных вепсов, живших в непосредственной близости от людиков [16, 69 ]. Однако по более поздним полевым записям объяснялось это достаточно рационально: пожилые женщины не боятся покойников и не брезгуют мертвым телом: «Ну раньше были такие бабули в деревне… другие, ведь, и боятся покойника, или брезгуют. А эти уже были такие [старые]…»14.
По наиболее ранней традиции покойника помещали в горнице на лавке головой к иконам в «красном» углу ногами к выходу [5, 224 ]15. Михайловские людики так и говорили: “ Jumalan sauman pie panda ” – «К Божьему углу голову класть»16. Такое расположение тела, известное у прибалтийско-финских и русского народов, исповедовавших христианство, было определено православной традицией [8, 145 ; 9, 367 ]17. Как утверждают информанты, в советский период, несмотря на проводимую атеистическую политику, иконы
^u> ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ во многих домах сохранялись. Хотя и в крупных людиковских поселениях, таких, как Спасская Губа, иконы в доме обычно не держали18, но традиция класть умершего головой в «большой» угол сохранялась.
Священник или пожилая женщина, совершавшие отпевание, покрывали лоб покойного венчиком – полоской бумаги с изображением Господа и святых (символ награды Царства Небесного за тяготы земной жизни)19. Умершему в руки вкладывали лист с текстом разрешительной молитвы или, как в народе называли, паспорт («чтоб на тот свет принять»), и иконку, которую некоторые вынимали из гроба перед погребением20. Традиция хоронить покойника с иконкой была распространена в южной Карелии в более ранний период. По данным раскопок средневековых кладбищ в Олонце, в XVI–XVII в. умерших хоронили с нательными крестами, а иногда и с иконками [11, 95 ].
После перемещения покойника в гроб по его сторонам зажигали свечи. Эти действия совершали также согласно правилам православного обряда, требующим зажигать свечи возле гроба, причем их желательно было расставить с четырех сторон крестообразно (или только у головы). Считалось, что огонь свечи символизирует надежду на переход усопшего в загробный мир21, или в знак того, что умерший перешел в область света – в лучшую загробную жизнь22. Северные людики даже называли свечи, которые держали в руках во время погребения тела, «божьими свечами» (d’umalan tuohukset)23. В народных объяснениях данный церковный канон интерпретировали следующим образом: это делали для того, чтобы после смерти на том свете покойный, которого сейчас хоронили, тоже встретил новопреставив-шихся родственников или односельчан со свечой в руке и осветил им путь24.
Гроб (люд. groba – Галлезеро, Михайловское, Уссуны, Пяжа; ruuhi – Койкары, Святозеро, Лижма25) по христианской традиции не красили и не обшивали материа-лом26. Для людиков типично было делать отверстия-окошки в гробу, что являлось народной адаптацией: гроб воспринимался как дом мертвого и противопоставлялся дому живых27. Данное представление отразилось в карельских причитаниях, где плакальщица выражает озабоченность в создании таких окошек, чтобы покойный мог видеть, как живут его сородичи. Похожие объяснения мы находим у жителей в д. Лижма Пряжинского района: «Чтобы он28 видел»29, и в Спасской Губе: «Почему окошечка нету? Сделайте окошечко, чтобы бабушка меня видела, и я ее чтобы видела»30. Интересно, что в севернорусских селах объясняли наличие окошек в гробу христианской идеей воскрешения31.
Считалось, что пока покойник в доме, его нельзя оставлять одного, поэтому важное значение в похоронной обрядности христианских народов занимают ночные бдения, сопровождаемые ночными молениями32. Даже в советское время ночные бдения около покойника в люди- ковских деревнях в большинстве случаев сохранялись еще в XX в.33 Бдениям придавалось большое значение у карел повсеместно. Финляндский исследователь С. Паулахарью отмечал, что по представлению собственно карельского населения каждый человек должен на своем веку провести не менее трех ночей возле трех покойников, чтобы в загробном мире он мог попасть в «царство небесное» [20, 93–94]. По общекарельским представлениям на ночные бдения нужно ходить еще и потому, чтобы после смерти было кому встретить твою душу [15, 45 ]. Во время бдений часто велись разговоры о мифологических персонажах – мертвецах, домовых, леших и т. д.34, которые могли быть и шутливыми. Особенно это заметно у михайловских людиков, когда проводился «веселый» вариант похорон. Во время обряда «веселения покойника» гармонист мог играть у гроба «разухабистые мелодии», если покойный являлся молодым человеком, или если умирающий сам попросил об этом [12, 35, 39]. Такие же «веселые похороны» в форме игры на музыкальном инструменте плясовых мелодий и исполнения частушек проводились у вепсов и михайловских людиков, а его отголоски прослеживаются у средних и северных карел-людиков. По мнению Н. Н. Велецкой и Г. С. Масловой, такой тип «веселых» похорон является отголоском влияния славянской традиции, в которой отражаются рудименты языческих погребальных оргий, направленных на противостояние губительного действия смерти [2, 144–145; 10, 100]. Н. И. и С. М. Толстые полагают, что «веселые» похороны, получившие разные формы развития у славянских и балтийских народов, имеют индоевропейское происхождение [18, 134].
Обязательным занятием во время ночных сидений было исполнение причитаний, а также пение (чтение) молитв на русском языке35. Самой распространен- ной молитвой во время таких сидений в людиковских деревнях была «Трисвятое»: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас»36, которую по церковному предписанию обычно исполняли при перенесении тела в храм на от-певание37. Обычай погребального пения «Трисвятое» имеет объяснение в апокрифической «Беседе трех святителей»: когда Иосиф Аримафейский с Никодимом молча несли тело Христа в гробницу, Иисус научил их петь «Трисвятое» и «оттоле уставися сия песнь пети, провожая умерших» [1, 164].
На редкой фотографии людиковских похорон в д. Устье Михайловского сельского Совета 1942 г. (рис. 1) запечатлено прощание с покойником перед выносом гроба. Данное изображение подтверждает вышеописанные сведения о большой христианской составляющей людиков-ских похорон: на изображении усопшая лежит в простом гробу, сколоченном из досок, на голове у нее повязан белый платок, руки скрещены на груди. Тело укрыто саваном до рук. По краям гроба у изголовья стоят зажженные свечи, причем их количество с каждой стороны гроба варьирует: с левого бока их четыре, у головы – три, а с правого бока – одна свеча. Вокруг умершей сидит, а чуть поодаль – стоит много людей всех возрастов, от детей до пожилых.
По церковному канону общий чин погребения, который совершает священник, состоит из двух крупных частей: Последование исходное – «по исходу души от тела» (или отходная ) и Последование мертвенное мирских тел (или отпевание ), совершавшихся сразу после смерти [1, 162 ]. Участие священнослужителя считалось важным на всех этапах людиковского похоронно-поминального обряда: от исповеди перед смертью до индивидуальных и общих поминок. Священник являлся главным проводником христианских традиций среди не-

Рис. 1. Прощание с покойником, с. Михайловское (фото Х. Клемола).
Источник:
M012:SUK1357:2.35C

Рис. 2. Похороны на кладбище в с. Михайловском (фото Х. Клемола).
Источник:
Fig. 1. Farewell to the deceased, village Mikhailovskoye (photo by H. Klemol).
Source:
M012:SUK1357:2.35C грамотных крестьян и требовал строгого исполнения церковных канонов от жителей его прихода. При этом даже самому уважаемому священнослужителю не всегда удавалось изжить некоторые традиции народа. Например, Н. Ф. Лесков в конце XIX в. писал, как поп отругал мужика, который принес на отпевание своего умершего ребенка в гробике, сделанном из долбленого чурбана, что являлось отголоском древнего обычая хоронить в долбленых колодах. Из-за этого попадья чуть не сожгла в печи такой чурбан с мертвым младенцем внутри. Священник всем жителям поселения дал строгий наказ не хоронить больше детей в чурбанах, но, как отметил краевед, традицию было трудно изжить38.
Обязательным правилом было совершение таинства исповеди у священника перед смертью. Северные людики верили, что при переходе в потусторонний мир нужно пройти через 22 пункта, и на первом пункте обязательно спрашивали: “ Oledgi pokaizunnu kuolendad vaste? ” – «Покаялся ли ты перед смертью?»39. Если же грешный человек умирал, не исповедавшись, то считалось, что память об этом человеке была запятнана, в таком случае о нем говорили: “ Ei pidanuš šille
Fig. 2. Figure 2. The funeral in the cemetery in the village Mikhailovsky (photo by H. Klemol).
Source:
rištʼšikanzale rodʼizuda tʼälle mualle ” – «Не нужно было этому человеку рождаться в этом мире», т. е. подразумевалось, что он оставил кому-то свои грехи в мире живых40.
Среди жителей севернолюдиковского с. Галлезера существовало поверье, что если смерть застала человека в лесу, то он мог исповедаться дереву. Кроме того, считалось, что лучше тому дереву, которое свалено на другое дерево и поскрипывало при порыве ветра. Перед таким деревом следовало опуститься на колени, перекреститься и покаяться в грехах, а также вырезать топором или ножом на стволе крест. По народным убеждениям, в данный момент должен задуть ветер, а дерево должно начать качаться и скрипеть. Верили, что таким образом Бог прощает все перечисленные грехи; карел-лю-дик Степан Годарев даже утверждал, что, якобы, дерево донесет исповедь до Бога лучше, чем священник: “ Mi pahale papile riähkät sanuda, ka parem mäne metʼtʼšai da sanu skrippijale pule ” – «Чем исповедовать грехи плохому священнику, лучше пойти в лес и рассказать [грехи] скрипучему дереву»41.
Среди северных карел существовали схожие представления о сваленном скрипучем дереве, которое символизировало переход на тот свет42: «Когда мы в лесу видели (и, прежде всего, слышали) такое дерево, которое, падая, зависло на втором, и оно там скрипело, это дерево – а оно всегда ведь скрипит, когда ветер дует – его надо было руками убрать, снять со стоящего дерева. А топором нельзя было рубить, надо было руками снять, чтобы то дерево (стоящее) перестало мучиться. И они все43 наращивали этот мост через реку Туонелы44»45.
Данные представления отражают языческо-христианский синкретический комплекс, сложившийся в похоронной обрядности карел, и в частности людиков: с одной стороны, верования о дереве как медиаторе между мирами, а с другой – христианские воззрения о Всевышнем, таинстве исповедания и человеческих грехах. В то же время стоит обратить внимание, что в записанном П. Вирта-ранта сообщении от С. Годарева принижается роль священника, что может объясняться также распространением среди северных людиков идей беспоповского согласия – одного из направлений старообрядчества. Действительно, по данным исследователя старообрядчества в Карелии Н. И. Ружинской, в Кондопожской волости в XIX в. существовала старообрядческая община [14]. Упоминание о старообрядческих пережитках в быту людиков встречается и в отчете Р. Ф. Та-роевой об экспедиции в Петровский район в 1956 г. (ныне входит в Кондопожский район)46.
Следующее важное таинство, проводимое священником уже после смерти, – отпевание покойного. Посредством этого христианского обряда «Церковь провожает усопшего в мир инобытия, молитвенно ходатайствуя о нем и спрашивая у Бога прощения его грехов и дарования ему упокоения в Небесном Царстве»47. По народным же верованиям, данный обряд должен «успокоить» душу усопшего, чтобы та не досаждала живых, являясь им во сне»48. Традиционно отпевание проводили в церкви, доставляя туда покойника по дороге на кладбище49. Священнослужителя могли пригласить и на домашнее отпевание, где он читал молитвы у гроба и окроплял тело «святой» водой [1, 163]50. Приглашение священника на дом могло быть связано с тем, что в деревне, откуда был покойник, имелось свое кладбище и везти его в церковь (как правило, отдаленную) не имело смысла. По данным Ю. Ю. Сурхаско, например, у карел, в отличие от финнов, кладбища имелись при каждой деревне [17, 89]. Эту особенность распространения многих кладбищ XVIII в. в Олонецкой губернии отмечает также историк М. В. Пулькин [13, 43–44].
После ликвидации участия священника в похоронном ритуале карельской деревни в советское время его функции стал выполнять кто-то из родственников покойного, умевший читать по-церковнославянски и сохранивший в памяти христианские обряды. В Спасской Губе пожилые женщины, заменяя священника, во время выноса гроба и опускания его на пороги пели «Трисвя-тое» так же, как это было после отпевания в церкви или в доме, когда гроб (как правило, закрытый) с этим песнопением выносили к выходу51.
Во время опускания гроба по христианскому обычаю могла быть совершена последняя заупокойная лития (или она переносилась на момент возвращения с кладбища в дом)52. Священник брал лопатой горсть земли и крестообразно посыпал ее на гроб, читая молитву [1, 164 ].
^u> ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ Участники похорон в момент погребения помимо традиционных причетов исполняли и наиболее употребляемые молитвы – «Трисвятое», «Вечная память» и др.53
В обязанности священника входило также кадить свежевырытую могилу54. По толкованию Святых Отцов, «огонь как вещество сожигающее и согревающее изображает собою Божество. Поэтому огонь кадильных углей знаменует Божественную природу Христа, само вещество угля – Его человеческую природу, а ладан – молитвы людей, приносимые Богу. Каждение людей символизирует благословение и схождение Святого Духа»55.
В XX в. священнослужителя в этом деле снова могла заменить пожилая женщина, используя кадило из подручных средств. На пограничной ливвиковско-людиковской территории в д. Вохтозеро были записаны сведения о самодельном кадиле для освящения могилы: в ковш или совок клали угли, предварительно взятые из печи в доме, вместо ладана использовали остатки от церковной свечи. После каждения эти угли высыпали в могилу56. На фотографии, сделанной во время Великой Отечественной войны на кладбище в Михайловском (рис. 2), запечатлены участники похорон во время прощания с телом перед опусканием в могилу – священник на этой церемонии уже отсутствовал в то время.
Еще один случай представления языческо-христианского синкретизма отражен в интервью жительницы д. Декнаволок 1931 г. р., которая описала интересный обряд копания могилы, соединявший в себе действия народного и православного происхождения. Прежде чем мужчины пойдут копать могилу, на месте будущего погребения информант читала молитвы. После того, как могила была вырыта, она зажигала свечи, бросала деньги в могилу и окуривала ее ладаном, спрашивая разрешения у «хозяев» и «хозяюшек» клад- бища (так она назвала тех, кто был там раньше погребен) принять новое тело57.
Что же касается поминальных дней, то перечень установления сроков поминовений у карел-людиков (как полный, включающий день похорон, 9-й, 20-й, 40-й дни, полгода, год, так и неполный – без 20-го дня и полугода) свидетельствует о том, что в его основе лежала православная традиция, согласно которой поминки устраиваются на 3-й день после кончины (в день похорон), на 9-й, 40-й дни и в годовщину смерти [5, 222, 224 ; 6, 80 ]. Иногда церковь выделяет и 20-й день, что, по мнению Т. А. Бернштам, идет из XVII в. и является данью апокрифам [1, 173 ].
Согласно церковному учению, первые два дня душе позволяется вместе с ангелами находиться на земле, скитаться возле дома, где лежит тело, которое она любит. К третьему дню изменяется телесный облик умершего и тело предается земле, а душа возносится на мытарства или частный суд и для первого поклонения Богу. Этим событиям и посвящается поминовение на третий день, которое может оказать помощь душе в прохождении частного суда. В течение следующих шести дней душе показываются красоты рая, где обитают праведные души. За это время истлевает тело, кроме сердца. На девятый день душа возносится на второе поклонение Богу, которому посвящаются девятины. В следующие до сорочин дни истлеванию подвергается сердце, а ангелы показывают душе ад. На сороковой день душа в третий раз является к Богу, который назначает ей обитель. В честь этого события отмечается поминовение в сорочины [1, 172]. Адаптацию этих представлений в среде святозерских людиков зафиксировал Лесков: «По представлениям кореляков, душа умершего в продолжении сорока дней после смерти находится на земле: посещает свой дом, осматривает свое прежнее хозяйство и делает даже распоряжения – сшить такому-то соседу рубашку, подарить такому-то его новый кафтан, и такие посмертные распоряжения исполняются в точности»58. После сорокового дня душа «улетает» из дома, отправляется к Богу «по своим делам» [5, 222, 224]59. Г. И. Куликовский взгляды населения Обонежья характеризует примерно также: «Считают даже, что покойник до 40 дней живет близ своих, бродит около родного крова и уходит лишь после так называемого “отпуска”, совершаемого в 40-й день; если не сделать этого, то покойник будет мучиться, да и живых будет беспокоить. “Отпуском” служит лития, совершаемая в 40-й день, и поминки, совершающиеся в различных местах различно…» [7, 53–54]. Как видим, в этих представлениях сюжеты о мытарствах души до 40-го дня отсутствуют.
Когда в доме умершего проводились поминки (люд. muistaizet – Киндасово; pominkad – Михайловское) [5, 224 ]60, то в деревнях, где имелись церкви, заказывалась обедня (люд. murgin ‘обед’; vero ‘порция еды’ – Святозеро) [5, 225 ; 20, 248, 483 ]61, и к поминальному столу снова приглашали священника, который совершал литию об усопшем православном христианине. В состав поминального стола входили и по сей день входят кисель и кутья, которые считались традиционными поминальными блюдами по всей Руси и одобрялись Русской православной церковью как важные поминальные яства христиан62.
Во время сорочин священнослужителей встречали и провожали с причитания-ми63. Лесков приводит народное объяснение этой традиции: «...вместе с “попами” приходит из церкви в дом душа умершего», ее нужно принять на подушку и разместить в доме на печи64. Данный свято-зерский обряд демонстрирует развитый культ предков у людиков, важными умилостивительными актами которого были обогревание предков и их кормление.
Заключение
В людиковской похоронно-поминальной обрядности устойчивым оказался пласт представлений и обрядов православного происхождения, который адаптировался и видоизменялся в народной среде. В обрядах православного происхождения можно выделить обязательное совершение таинства исповеди перед смертью, омовение тела, особенности изготовления гроба (скромный, без обивки и украшений) и выбора погребальной одежды, наличие необходимых для чина погребения атрибутов (венчик, разрешительная молитва, икона, свечи), отпевание, освящение могилы, состав поминального стола (кутья, кисель) и участие священника на поминках.
Православный ритуал погребения сохранялся и в советское время, несмотря на атеистическую пропаганду и ожесточенную борьбу советского государства с религией. Это отразилось в сохранении икон и укладывании покойника соответственно расположению их в доме, в приобретении и использовании церковной атрибутики (венчик, иконки, свечи, самодельные «кадила»), исполнении молитв («Трисвятое») верующими пожилыми женщинами. Семантику некоторых православных обрядов народ со временем начинал трактовать по-своему: окошки в гробу как идея воскрешения, раскаяние перед смертью, чтобы душа беспрепятственно могла попасть на «тот свет», причитания, адресованные священнику как проводнику души, и т. д. Часть традиций продолжала существовать в форме языческо-христианского синкретизма: проведение «веселых похорон» (отголоски погребальных оргий); совершение таинства исповеди дереву (культ дерева как медиатора между мирами); обращение к захороненным на кладбище принять нового соседа (культ предков). Актуальным остается вопрос о роли старообрядчества у некоторых карел-людиков.
Список литературы Представления и обряды православного происхождения в похоронно-поминальной обрядности карел-людиков и их динамика
- Бернштам Т. А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян. Учение и опыт Церкви в народном христианстве. Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 2000. 400 с.
- Велецкая Н. Н. О некоторых ритуальных явлениях языческой погребальной обрядности (к анализу сообщения Ибн-Фадлана о похоронах «русса») // История, культура, фольклор и этнография славянских народов. VI Международный съезд славистов (Прага, 1968): докл. совет. делегации. Москва, 1968. С. 192-212.
- Громыко М. М., Кузнецов С. В., Буганов А. В. Православие в русской народной культуре: направление исследований // Этнографическое обозрение. 1993. № 6. С. 60-84.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней / науч. ред. Н. А. Кораблев, В. Г. Макуров, Ю. А. Савватеев, М. И. Шумилов. Петрозаводск: Периодика, 2001. 944 с.
- Конкка А. П. Материалы похоронной обрядности и типологии сельских кладбищ людиковского ареала // История и традиционная культура народов Карелии и сопредельных областей в свете новых источников, методов и подходов (памяти Р. Ф. Никольской). Петрозаводск, 2017. С. 219-237.
- Кремлева Н. А. Похоронно-поминальные обряды у русских: связь живых и умерших // Православная жизнь русских крестьян XIX-XX веков: Итоги этнографических исследований. Москва, 2001. С. 72-87.
- Куликовский Г. И. Похоронные обряды Обонежского края // Этнографическое обозрение. 1890. Кн. 4, № 1. С. 44-60.
- Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. 227 с.
- Логинов К. К. Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты. Москва: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. 424 с.
- Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях (XIX - начала XX вв.). Москва: Наука, 1984. 216 с.
- Овсянников О. В., Кочкуркина С. И. О древнем Олонце // Средневековые поселения Карелии и Приладожья. Петрозаводск, 1978. С. 71-112.
- Пименов В. В. К вопросу о карело-вепсских культурных связях // Советская этнография. 1960. № 5. С. 30-41.
- Пулькин М. В. Иерархия таинств: проблемы осуществления церковных треб в XVIII - начале XX в. (по материалам Олонецкой епархии) // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири: сб. ст. Юго Юльевича Сурхаско. Гуманитарные исследования. Петрозаводск, 2009. Вып. 2. С. 31-52.
- Ружинская Н. И. Старообрядческое прошлое Кондопожского края // Кондопожский край в истории Карелии и России: материалы III краевед. чтений, посвящ. памяти С. В. Шежемского. Петрозаводск; Кондопога, 2000. С. 154-159.
- Степанова А. С. Карельские плачи: специ¬фика жанра: избр. ст. Петрозаводск: Периодика, 2003. 216 с.
- Строгальщикова З. И. Погребальная обрядность вепсов // Этнокультурные процессы в Карелии. Петрозаводск, 1986. С. 65-85.
- Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Конец XIX - начало ХХ в. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. 174 с.
- Толстой Н. И., Толстая С. М. Некоторые балто-славянские параллели из области архаической духовной культуры // Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. Предварительные материалы. Москва, 1978. С. 134-135.
- Фишман О. М. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. Москва: Индрик, 2003. 408 c.
- Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema: vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Porvoo: WSO, 1924. 188 s.