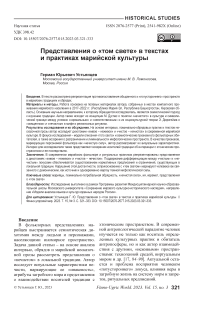Представления о «том свете» в текстах и практиках марийской культуры
Автор: Устьянцев Г.Ю.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. В тексте рассмотрена репрезентация противопоставления обыденного и «потустороннего» пространств в марийских традициях и обрядах.
Марийцы, поминально-погребальная обрядность,
Короткий адрес: https://sciup.org/147242395
IDR: 147242395 | УДК: 398.42 | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.03.321-333
Текст научной статьи Представления о «том свете» в текстах и практиках марийской культуры
В фольклорных представлениях марийцев выстраивается семиотическая дихотомия между людьми и персонажами, населяющими иномирное пространство. Задача данной статьи – на основе анализа интервью, обрядов и марийской несказочной прозы рассмотреть представления о «нечистом» в локальной традиции. Автор исследует визуальные характеристики нечисти, маркирующие ее «инаковость», атрибуты загробного мира и представления о взаимодействии носителей традиции с хтоническим пространством. В современной антропологической парадигме человек изучается не только как носитель определенных культурных практик и обитатель антропосферы, но и как актор взаимодействия с другими, «неживыми» пространствами: техногенной средой, виртуальным миром и др. [17, 84–90]. Актуальной остается и проблема восприятия человеком «потустороннего» локуса, влияния веры в загробную жизнь на систему норм и запретов, ритуальных предписаний.
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Обзор литературы
Отдельные данные по погребальным обрядам и «загробным верованиям» марийцев, а также демоническим персонажам их фольклора приводятся в работах XIX в., принадлежащих Н. И. Золотницкому [7], С. К. Кузнецову [8], Т. С. Семенову [15], И. Н. Смирнову [16], Г. Яковлеву [24] и другим авторам. В начале ХХ в. исследования представлений марийцев о «нечистой силе» продолжил языковед М. Г. Васильев [2]. В 1950-х гг. марийские религиозные верования и мифологические образы изучал американский семиотик и лингвист Т. Шебек [26]. Весомый вклад в систематизацию представлений о марийской мифологии внесли этнолог Л. С. Тойдыбекова [18], этнокультуролог Г. Е. Шкалина [22], религиовед и этнолог Н. С. Попов [13]. Несмотря на большой объем опубликованных материалов о марийских обрядах и верованиях, связанных с образами загробного мира, эти этнографические данные слабо освещены в рамках семиотического подхода.
Материалы и методы
Работа основана на полевых материалах автора, собранных в экспедициях 2017–2022 гг. в местах компактного расселения луговых и восточных марийцев (преимущественно в сельской местности) в республиках Марий Эл, Башкортостан и Кировской области. Выезды осуществлялись как индивидуально, так и в составе экспедиций кафедры этнологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Основными источниками в работе выступают тексты интервью, в качестве дополнительного материала использованы тексты несказочной прозы (былички, бывальщины, поверья). Язык общения с информантами преимущественно русский. Методологической опорой выступило семиотическое направление в исследовании мифологии, представленное в работах отечественных ученых. В указанной методологической рамке устная традиция рассматривается как символическое пространство (мета- текст), включающее различные интерпретации и сети значений. Помимо этого автор обращается к антропологической концепции М. Дуглас о понятии «нечистого» в культуре и символической границе между «нормальным» и «неприемлемым». Особую значимость представляет концепция французского автора Э. Дюркгейма о противопоставлении «чистого» и «нечистого» и их взаимосвязи в рамках культуры священного.
Результаты исследования и их обсуждение
«Иной мир»
в мифологической картине мира.
Представления о дихотомии пространств
« Иной мир», или «тот свет» (луговомар. вес тӱня ‘загробный мир, мир мертвых’), в восприятии носителей традиции представляется условным абстрактным хроно-топом1, находящимся за рамками обозримого человеком обжитого пространства, пристанищем душ покойников и демонических персонажей. Среди обитателей «того света» в локальном фольклоре фигурируют души умерших (луговомар. тошто мари-влак ), «заложные» покойники, демонические персонажи («нечистая сила»). Хотя эти мифологические образы выполняют разные функции в представлениях марийцев, их объединяет принадлежность к локусу хтонического, «нечистого» и «неживого». Представления марийцев об этом пространстве отражены в обрядах и текстах локального фольклора (былич-ках, бывальщинах, поверьях).
В современных нарративах редко звучат конкретные термины, определяющие иномирное пространство: «ад», «мир мертвых» и т. д. Чаще информанты используют более абстрактные категории: «оттуда», «другой мир», «тот мир», «там» [ПМА], т. е. отмечается нейтрализация в описании пространства смерти. Главное его свойство – изолированность от человека и привычной обыденной жизни. Некотроли-руемое символическое нарушение границ между измерениями «чистого» и «нечистого» табуировано и ведет к дисгармонии мифологического миропорядка.
В ритуальных практиках и фольклоре марийцев, как и многих других народов, представлены традиции, направленные на сегрегацию сферы «живого» и «неживого». Так, в марийской культуре бытуют запреты на принесение домой предметов с кладбища, использование вещей умершего и соприкосновение с его телом [ПМА]. Все, что прикасалось к коже покойника, согласно традициям многих культур, должно быть очищено [25, 11–15 ]. Таким образом, поддерживаются существование барьера между мифологическими пространствами, незыблемость «символических границ тела», связанных, по М. Дуглас, с опасностью для всего социума [3, 184 ]. По мнению антрополога, дифференциация «чистого» и «грязного», репрезентируемая в ритуале и мифе, обеспечивает сохранность сообщества. При этом нарушение границ влечет за собой опасность и в то же время потенциально большую силу, которая может быть разрушительной [3, 147 ]. Данный тезис справедлив в отношении фольклорной нечисти: ее хто-нический характер предполагает потенциальную угрозу для человека и силу над ним. Э. Дюркгейм полагал, что для религиозно-мифологической сферы культуры внутренняя дихотомия является определяющим принципом: «Таким образом, вся религиозная жизнь вращается вокруг двух противоположных полюсов, которые противополагаются как чистое и нечистое, священное и кощунственное, божественное и дьявольское» [4, 675 ].
Сегрегация сакрального и демонического представлена в космогонических, этиологических мифах и мифологических сказках марийцев. Один из самых распространенных мифов, сюжет о сотворении мира двумя божествами-антагонистами, встречается и в культурах других финно-угорских народов (коми, удмуртов и др.) [14]. Согласно мифу, изначально существовали два божества: Юмо и Кере-мет. Юмо, доброе божество, поссорился с
Кереметом и прогнал его на землю. С тех пор Юмо управляет небесным пространством, а Керемет – земной сферой [22, 80 ]. В одной из версий мифа Керемет по указанию Юмо достал со дна мирового океана землю. Светлый бог сотворил из нее сушу и гладкий ландшафт. Керемет же, утаив во рту часть земли, выплюнул ее – так появились холмы и горы [23, 116 ]. По мнению Г. Е. Шкалиной, Юмо (в религиозной традиции – Ош Поро Кугу Юмо ‘Светлый Добрый Великий Бог’) репрезентирует «светлое, доброе и мягкое», а Керемет – «темное, злое, твердое» [22, 81 ].
Полевые исследования свидетельствуют, что приверженцы марийской традиционной религии обращаются к Юмо во время молений в священных рощах - кусото ; Керемета они чаще воспринимают как божество, отводящее болезни, беды, или как покровителя колдовства и злых сил [20, 307 ]. По замечанию Э. Дюркгейма, демоническое существо, будучи «нечистым», не является профанным: «антибог является богом» [4, 692 ]. Практики моления Керемету в настоящее время фактически не встречаются, однако места поклонения ему отмечены в локальных традициях, воспоминаниях местных жителей [20, 307 ]. В понимании информантов керемет2 утратил функцию божества-антагониста, участвующего в создании мира трикстера. Представления о керемете в современной марийской культуре можно условно разделить на демонологические, для которых свойственно соотнесение его с чертом или демоном; культовые, т. е. почитание его как локального божества; природоцентрические, т. е. наделение его статусом духа природы [5, 120 ]. Если миф фиксирует дихотомию между условно светлым и темным, созидательным и разрушительным, то народная интерпретация и фольклор отражают более мозаичные взгляды на мироустройство.
Четких и детальных представлений об «ином мире» в устной традиции нет. Воззрения информантов о том, где именно обитает душа умершего, разнообразны: в некоторых нарративах присутствует упо-
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ минание загробного мира, иногда пристанищем душ считается кладбище, могила или место смерти. Историографические данные этнографов о «том свете» также разнообразны. По материалам архиепископа Никанора, в верованиях марийцев загробная жизнь, «с одной стороны подобна здешней, служа продолжением ее, а с другой более духовна» [12, 15 ]. Автор упоминает «светлый мир», в который покойнику нужно взобраться по лестнице. Душа умершего посещает загробного судью, затем должна пройти над кипящим котлом по тонкой жерди [12, 17 ]. Этнограф И. Н. Смирнов, касаясь представлений марийцев о посмертном существовании души, указывает, что она сохраняет «все свойства живого существа», т. е. продолжает свои прижизненные практики, имеет те же привычки и потребности после смерти человека [16, 146 ].
В ритуальных танатологических практиках луговых и восточных марийцев отражены поверья о продолжении жизни на «том свете»: подкладываемые в гроб еда, одежда и другие вещи могут быть полезны и после смерти. С. К. Кузнецов среди данной группы предметов отмечает нож, трубку или табакерку, лапоть, липовую палку (чтобы отбиваться от «загробных собак»), лепешки, алкогольные напитки, монеты, нити, инструменты [8, 15–16 ]. Состав этих ритуальных предметов зависит от профессии, пола и возраста умершего. Более того, неженатые и незамужние люди, согласно автору, после смерти могут вступить в брачные отношения.
В то же время пристанищем души умершего, по свидетельству И. Н. Смирнова, считалось кладбище или могила [16, 146–147]. В описаниях этнографа встречается упоминание абстрактной страны умерших, расположенной на западе или возвышенности [16, 159]. По данным С. К. Кузнецова, души праведных марийцев превращаются в рыб, а грешники умирают окончательно [8, 24]. В этом прослеживается связь пространства смерти с водой. Согласно представлениям, которые И. Н. Смирнов объясняет влиянием тюркских исламизированных народов, после смерти марийцев ждет суд «адского судьи»: от его решения зависит, направится ли душа в рай («светлый мир») или «в темную бездну» [16, 160]. В молитвах, записанных Г. Я. Яковлевым, мир мертвых называется «адом» [24, 73]. В некоторых ритуальных текстах присутствует образ поляны с ягодами (клубникой) как последнего пристанища души [ПМА].
Иногда информанты указывают на многоярусное устройство мира: «Смотрите, по нашим верованиям, у нас семь миров, как планет, получается, семь. Это белый свет – он из семи. Мы здесь побудем, сколько нам суждено, и в другой мир – кто на воздух, кто… Поэтому, когда наступает смерть, марийцы не горюют, потому что в другом месте будем… Поэтому, видите, татары после кладбища даже не заходят, а у нас человек умер – как праздник, ладно, что умер, погуляем»3.
Можно заключить, что образ иномирного пространства у марийцев варьируется от абстрактного (царство смерти, светлый и темный мир) до конкретно-материального (поляна, водоем, могила, кладбище).
В марийской культуре существует представление о временном промежутке, когда границы мифологических пространств подвижны и происходит контролируемое человеком взаимодействие между ними. Так, для многих групп марийцев характерна практика символического приглашения душ умерших родственников в дом в особые памятные даты и праздники календарного цикла: третий, седьмой, сороковой дни после смерти, Семык, Великий четверг, среда перед Пятидесятницей, окончание полевых работ [24, 73–77]. В прошлом марийцы символически приглашали души умерших родственников в баню, готовили для них застолье с ритуальной едой, читали домашние моления [8, 48–51]. В настоящее время, судя по нашим полевым материалам, тенденция к почитанию культа предков сохраняется, как и связанные с ней практики. Важность ритуалов и частота поминовения усопших зависят от традиций конкретной этнографической груп- пы и местности. В марийской культуре ритуалы почитания и угощения покойников могут подразумевать их приглашение в «этот мир». По И. Н. Смирнову, умершие сохраняют связь со своим социумом и деревней и могут посещать «этот мир» по призыву родных. Души предков просили о здоровье, защите скота, богатстве [16, 162–163]. Влияние умерших на живых сопоставимо с воздействием других объектов культа: божеств, духов природы. В почитании умерших как покровителей можно видеть нарушение дистанцирован-ности от образов «того света», временное контролируемое сближение с табуированным пространством смерти.
Для некоторых информантов общение с умершими родственниками является частью повседневности, к ним обращаются с довольно обыденными просьбами: «У меня еще была ситуация такая: папа только умер, и у него сороковой день отмечали, и у меня пропала золотая цепочка. А единственный, кто был в этот день, – приходила подруга. И вот этот был диван, где папа умер, и я туда прихожу и говорю: “Папа, ты мне просто покажи, кто это сделал, не обязательно возвращать – цепочка не вернулась, я просто говорю, – покажи, кто это”. И на следующий день у меня это... у моей одноклассницы звонит мне мама и говорит: “Вы своему М. поставьте свечку, потому что В. всю ночь снилось, что М. за ней гонится”. То есть вот показал, кто это сделал»4.
Данный пример и аналогичные ему тексты иллюстрируют отношение носителей традиции к тошто мари-влак , душам предков как к мифологическим помощникам. В этом проявляется культ предков, т. е. сакрализация духов умерших людей и двойственное восприятие умерших, которые могут восприниматься в качестве источника потенциальной опасности и в качестве благодетели в мире живых. Э. Дюркгейм обозначил амбивалентный характер «нечистого» в мифологии, способность его трансформироваться в сакральное таким образом: «Чистое иногда может загрязнять, а нечистое – освящать» [4, 678 ].
Для марийцев важно, чтобы души умерших не остались в мире живых и смогли уйти или вернуться на «тот свет», в царство Киямата. И. Н. Смирнов упоминал о том, что умерший может забрать с собой не только нужные предметы, но и людей. Для предотвращения этого марийцы клали на гроб моток ниток, из которого каждый из присутствующих на похоронах вытягивал одну и просил, чтобы покойник не забрал с собой [16, 152 ]. По этнографическим данным С. К. Кузнецова, чтобы душа покойника-марийца не проникла в дом, враждующие с марийцами удмурты окуривали избу дымом [8, 50 ]. Воздействию «нечистого» были подвержены также вещи: «…прикосновение к трупу требует омовения и перемены одежды, а душа, посещая семью, оскверняет все, до чего дотронется» [8, 74 ]. Соответственно марийцы старались избавиться от еды, которая предназначалась покойному, от посуды, использовавшейся в поминальнопогребальной обрядности. Этнограф писал и об обратной тенденции: съедать всю еду, предназначенную покойнику, а поминальный алкогольный напиток наделять особыми целебными свойствами [8, 74 ]. Информанты из Параньгинского района Республики Марий Эл (д. Елеево) также считают, что смесь алкогольных напитков, оставшихся после сорокового дня, можно использовать как лекарство. В этой же местности бытует традиция сжигать деревянные доски для поминальных свечей и остатки воска. Во многих исследуемых деревнях поминальную еду принято съедать, а поминальные свечи прятать в доме [ПМА].
-
Н. С. Попов отмечает, что умершему специально затыкали уши, закрывали глаза и лицо, так как боялись его гнева. Воду после обмывания покойника выливали [13, 249 ]. С целью очищения пространства от злых сил стены и пол дома хлестали рябиновыми прутьями, помещение тщательно мыли [13, 250 ]. Поскольку потенциальная сила умерших может привести к негативным последствиям для живых людей, контакты с ней необходимо
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ограничить и через предметы. Самым распространенным ритуализированным табу является запрет на занесение в дом вещей с кладбища. Э. Дюркгейм отмечал, что «нечистое», как и священное, обладает конта-гиозностью, способностью к распространению [4, 678 ]. Практики, направленные на сегрегацию «нечистого», связанного со смертью, от живых людей, можно интерпретировать как проявления «негативных культов», т. е. отделения профанного от сакрального культа предков [4, 497–498 ]. С другой стороны, можно видеть в этих ритуалах и тенденцию к избеганию потенциально вредоносных сил. Представления марийцев о пресечении контактов с умершими выражает стремление восстановить дихотомию мифологических пространств в ходе поминально-погребального культа и предотвратить их взаимодействие.
Понятие лиминальности в фольклоре. Взаимодействие пространств в восприятии этнофоров
При взаимодействии людей с «нечистой силой» и душами умерших, согласно традиции, возникает пространственновременная ситуация пограничья: нечисть проявляется в реальном мире или, наоборот, сам человек попадает в потусторонний мир. Пространство между «живым» и «мертвым» можно охарактеризовать как лиминальное. Лиминальность, по Б. То-массену, свойственна объекту, помещенному в состояние перехода, находящемуся «между» как в пространственном, так и в темпоральном значении [27, 8–11]. «Существуют время и место, когда граница между мирами открыта и души умерших, а также иномерные существа по определенным путям могут свободно проникать в “наш” мир, а живые люди при особых условиях посещать “тот” свет» [9, 361]. В марийской культуре к таким местам относятся определенные объекты природного ландшафта (овраги, леса, водные объекты и т. д.), обычно находящиеся на перифе- рии. Этнограф Т. С. Семенов отмечал, что, по марийским верованиям, леса, горы, овраги и деревья населены кереметами [15, 24].
Подобные представления широко распространены и в современном фольклоре: «Ия – ну это черт, ну тогда жил, по разговорам я помню, как из А. в Ал. ехать, там вдоль речки под горкой плутали. Все говорили люди, что там ия5 пугает, не то что пугает, плутает. И вот, понимаешь, плутали, ехали кругами (очевидцы), все туда же возвращались, потом садились, молились и выезжали»6.
Свойствами «нечистого пространства» марийская фольклорная традиция наделяет и жилые постройки: бани, заброшенные дома, дома культуры. Если у места нет постоянных жильцов и хозяев, то в нем может поселиться нечисть: «Это здание-то древнегреческое7, как говорится, старое, старое, там тоже говорили, черти-то, оно старое. Сельский клуб это называется. Это раньше, это раньше нас пугали, мама: “Не бегайте, там ия”!»8.
Периферия реального мира, «живой ойкумены» в марийском фольклоре имеет дуалистический характер. Места с «дурной» репутацией находятся под защитой «нечистой силы», поэтому в случае нарушения запретов велика вероятность столкнуться с демоническими сущностями и стать их жертвой. Согласно поверьям, опасность встречи с нечистью в «нехорошем месте» актуализируется в полночь, полдень, определенные праздники [ПМА]. При этом в нарративах представлена информация об удаче, которую человек может обрести, пребывая в пространстве «нечистого». Так в некоторых локусах, например в бане, можно научиться играть на музыкальном инструменте, петь или танцевать [ПМА].
Ситауция пограничья, нарушения сегрегации пространств выражается в явлении «нечистой силы»: «заложных» покойников и демонических персонажей. В фольклоре можно выделить три основных мотива для пересечения ими границ между мирами. Первый сводится к тому, что демоны и покойники таким образом вредят человеку, «водят» и пугают его, «сживая со света» болезнями, безумием и т. д. Второй мотив – предсказание, предвещание смерти. Как правило, видения умерших предков происходят перед гибелью человека [19, 239]. Аналогичный сюжет о встрече перед смертью с умершими родственниками присутствует, например, в фольклоре карелов-лю-диков [10, 306]. Третий мотив – «нечистая сила» может выступать защитником определенного пространственного ландшафта: леса, рощи, водоема и т. д.
Есть несколько способов, которые, согласно традиции, могут отпугнуть «нечистую силу»: громко выругаться, перекреститься, прочесть молитву. Если человек заблудился в результате происков демонических персонажей, то, как считается, ему нужно вывернуть одежду наизнанку, поменять левый и правый ботинки местами. Эти универсальные (известные далеко за пределами марийской культуры) предписания семиотически обозначают мимикрию человека под обитателей «того света», наделяют его неузнанностью для злых духов.
Лиминальностью обладают открытые «проходы-порталы» между двумя пространствами: колодцы, замочные скважины, зеркала [28, 187 ]. Вглядываясь в эти точки пространства, по марийским поверьям, можно увидеть или призвать нечисть. В сельской местности распространен запрет смотреть ночью в окно на улицу, так как там можно увидеть «страшное» [ПМА].
Индивиды, соприкоснувшиеся с миром умерших в своих видениях, не воспринимаются местным социумом как «обычные» или «нормальные». В нарративах их описывают как уже «частично неживых», подверженнных серьезной опасности: болезням, несчастным случаям, безумию. В особом пограничном состоянии находятся вдовы, к которым после смерти регулярно являются мужья. После таких контактов женщины, согласно нарративам, сходят с ума или умирают: «А, ну да, тут на кон- це рассказывали, муж у нее фронтовик, участник Отечественной войны, и после войны, видимо, очень тосковала, больна… в З. была, и, говорят, он к ней приходит, и она начала сходить с ума, мчится потом в поле, видимо, бежал за ней…»9.
В представлениях марийцев нарушение дифференциации пространств расценивается как приобщение к магическому знанию. «Находиться в пограничном состоянии – значит соприкасаться с опасностью и приближаться к источнику силы» [3, 147 ]. В марийской традиции лиминаль-ность присуща также знающим (ведьмам, колдунам), так как они взаимодействуют с «нечистой силой», повелевают ею или, наоборот, слушаются ее приказов:
« – А в Керметище, я школьницей и там ходила, была, ну там у нас одна ведунья такая была, колдунья, она у нас все делала, она сторожем школы была и между тем лечила людей, и она умерла где-то года полтора назад, и вон там свои ритуалы проводила, это я точно знаю, она свечи там жгла.
– Она у керемета просила, что ли, злого бога?
– Да, у керемета, потому что помогали другие силы.
– Это злой бог?
– Да, она моя соседка, кстати, была бабка она худая, тощая, но тащит неимоверное количество сена, идет впереди, и слышу “Чего ты мне не помогаешь, мне же тяжело?”. Я в шоке, кому это она, услышала, что я сзади иду, и такая: “Вот, идут, не помогают мне”»10.
Таким образом, контагиозность «нечистого» проявляется при контакте с «нехорошими местами» человека и при его взаимодействии с нечистью в приобретении лиминального статуса.
Образы насельников «того света» в марийской традиции.
Атрибуты «иномирности»
«Иной мир» в марийской культуре считается местом, населенным разнообразными образами «нечистой силы»: демоническими персонажами, душами
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ умерших, «заложными» покойниками. По определению Д. К. Зеленина, «за-ложные», или «мертвяки», – «это люди, умершие прежде срока своей естественной смерти, скончавшиеся, часто в молодости, скоропостижною несчастною или насильственною смертью» [6, 39 ]. Поэтому они не могут найти покой на «том свете» и часто являются живым. К нечисти относятся марийские демонические персонажи: овды11, кереметы, ия и др. В представлениях марийцев прослеживается тенденция к обозначению иномир-ности духов и «заложных» покойников, в фольклоре семиотически подчеркиваются их отличия от живых людей. Можно выделить несколько моделей репрезентации инаковости «нечистой силы»: зооморфный, антропоморфный, абстрактный. Исследователь С. Ю. Неклюдов конкретизировал следующие модели внешнего описания загробного персонажа: зрительную непредставленность, обретение материи (оборотничество, вселение в человека, полтергейст) и визуализацию в виде биологического существа [11].
Самым распространенным мотивом в описании марийской нечисти является их антропоморфное изображение. В соответствии с этой описательной моделью персонажи «того света» выглядят как люди. Обычно «заложные» покойники приходят в том же образе, в котором их видели при жизни. Нечисть может принимать внешний вид реально живущих или живших односельчан, больных; людей, которые, как считается, скоро умрут. Так, этнограф М. Г. Васильев описывал марийского керемета как нечисть в облике человека с большой бородой, управляющего тройкой лошадей и одетого в красное [2, 14]. Примечательно, что цветовая характеристика часто фигурирует в описании нечисти: «девушка, вся в белом», «в белом платье идет» [ПМА]. В марийском фольклоре описания белого цвета как атрибута нечисти известно с XIX в. Например, в статье «Народные верования луговых черемис Казанской губернии» ия описан как очень высокое существо в белых одеждах [1, 245]. Вероятно, белый цвет в описании демонических существ имеет семиотическую связь с цветом савана, похоронной обрядностью, отображает связь персонажей с загробным миром.
«Заложных» покойников информанты представляют как людей, ничем не отличающихся от своего облика при жизни. Души умерших являются в том же костюме, в котором их часто видели до смерти, либо в том, в котором их похоронили. В. А. Черванева выделяет черты живых и мертвецов в образе ходячего покойника. С одной стороны, данный мифологический персонаж сохраняет прижизненное имя (как правило), имеет категории родства и свойства, что делает покойника частью мира живых людей. С другой стороны, в описании призраков присутствует указание на причину смерти («утопленник», «покойный») и бестелесность («призрак»). Таким образом, дух умершего занимает в системе персонажей двоякое положение, находится как бы на границе двух воспринимаемых пространств [21]. В приведенных ниже нарративах «заложные» покойники сохраняют прижизненный облик:
«Нет, вот снимаю квартиру, вижу – не-упокоенные души, чтобы не пугал моего ребенка… слышу, что он харкает, ходит. Я вижу старика в клетчатой рубашке с бородой, такой высокий худощавый… Старик, но он не беспокоил меня, он чисто на кухне постоянно был… и чтобы он не беспокоил, я вижу его и обычно пеку блины, поставлю свечку, разговариваешь, чтобы не мешал, да обряд такой, и он исчезает потом опять… Видимо, это неупокоенные души, надо их отпевать…»12;
«Я поворачиваю голову, и вижу – сидит на заборе [покойница], прям на похоронах, и юбка черная у нее, прям как в гроб положили. Вот хотите верьте, хотите нет»13.
Вторая описательная модель, зафиксированная в нарративах, – это представление нечисти в антропоморфном виде, но с гиперболизированными частями тела, очень высокого роста, с длинными лохматыми волосами и т. д. Помимо высокого роста нежить может отличать и, наоборот, миниатюрное воплощение. Для персонажа овды обычно свойственны вывернутые назад колени, гипертрофированные феминные признаки, хождение спиной вперед.
Третью модель описания внешности загробных персонажей можно охарактеризовать как зооморфную. Демонические сущности могут являться в облике животных или существ со звероподобными чертами. По материалам Т. Шебека, марийский водяной демон способен принимать облик лошади [26, 61 ]. В следующем тексте нечисть, по словам информанта, перевоплотилась в cобаку: «У меня мама с папой учителями были, у них много случаев было. Идет одна учительница, захотела в туалет за стог, сумку оставила, выходит – сумки нет. Думает, что делать, вдруг это нечистая сила. Тут она бегом пустилась домой, в деревню. Зашла не домой, а интернат при школе был… в старшие классы. Спрашивает: “что делать?” Они говорят, пойдемте, Тамара Васильевна, посмотрим. Побежали. Вперед бежит их собака, и тут залает. Приходят – на сумке другая собака лежит, стережет. Тут одна девушка: “Смотрите, Тамара Васильевна, вот сумка”, подошла, взяла сумку. Мама потом жалела ее всю жизнь. Вернулись домой, и через некоторое время она умерла… Такая красавица, ни с того ни с сего заболела и умерла. Это видать, нечистая сила была, нельзя было первой подходить до сумки дотрагиваться. Это нечистая собакой оборотилась»14.
Можно предположить, что обличие животного в традиционной культуре подчеркивает нечеловеческое происхождение «нечистой силы», а также, как пишет С. Ю. Неклюдов, «невыделенность» из мира природы [11]. В ряде образов отмечаются синкретические черты: сочетание частей тел животного и человека. Примечательно, что упомянутый выше образ собаки встречается и в поминально-погребальной обрядности, в описаниях «того света». С. К. Кузнецов отмечал, что собаки оби- тают в «ином мире» и нападают на души умерших [8, 15]. Также известна традиция скармливания собакам поминальной еды, которая считается «нечистой» и не может быть употреблена человеком [8, 74].
Еще одна форма, в которой может предстать нечисть в несказочной прозе, – это абстрактные визуальные объекты: светящиеся шары, молнии [ПМА]. По Т. Шебеку, в марийской традиции светящиеся шары выступают визуализацией злого духа – ву-вера [26, 58 ]. В виде таких явлений могут предстать и духи природы, и «заложные» покойники: «Видят разных людей. Вот Р. была у нас, в туфлях, весна. Не было резиновой обуви. Пошла в апреле месяце, села у березы и уснула. Приехала в апреле провожать своего брата в армию. Потом пошла пешком десять километров. У нас же раньше дорог не было, вот она села у березы и умерла. Молодая, восемнадцать-девятнадцать лет девушке. И вот в том месте видят, как будто облако переходит дорогу. Это было в семьдесят восьмом году»15.
В текстах интервью и несказочной прозе марийцев присутствуют разные визуальные облики «нечистой силы». Основными свойствами, связывающими демонических персонажей с «тем светом», являются зооморфные черты: обильный волосяной покров, издание звериных звуков, а также способность перевоплощаться в животных. Души умерших и «заложные» покойники в локальной традиции часто имеют и антропоморфное воплощение, атрибуты, семиотически связывающие их с «тем светом»: они носят погребальный костюм, одежду белого цвета, могут быть описаны в категории «грязные», «мокрые». Нечисти в целом свойственны гипертрофированные признаки: очень высокий или низкий рост, длинные волосы, крупные части тела, а кроме того, движение спиной вперед, что обозначает их «инаковость». В совокупности указанные визуальные признаки характеризуют насельников «того света» как представителей мифологического «антимира», пространства, противоположного миру земному.
(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Заключение
В современном марийском фольклоре и ритуальных практиках репрезентированы представления о дихотомиях «живое – неживое» и «чистое – нечистое». Данные мифологические категории регулярно воспроизводятся в поминальнопогребальных действиях и в нарративах носителей традиции. «Нечистая сила» в представлениях респондентов наделена антропоморфными, зооморфными или абстрактными чертами. Гипертрофированные и звероподобные черты в визуализации хтонических существ говорят об их нерасчлененности с дикой природой, связи с потусторонним «антимиром», противостоящим обыденному пространству человеческой деятельности. Поддержание дифференциации между «чистым» и «нечистым» локусами обеспечивается существованием нормативных предписаний и ограничений, существующих в локальной традиции. Нарушение этой дистантности, соприкосновение с «тем светом» маркируют человека как связанного с демоническим, как источник и одновременно жертву темной мифологической силы.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ луговомар. – луговомарийский язык
ПМА – полевые материалы автора
Поступила 27.05.2023; одобрена 15.06.2023; принята 30.06.2023.
Список литературы Представления о «том свете» в текстах и практиках марийской культуры
- В. З. Народные верования луговых черемис Казанской губернии // Известия по Казанской епархии. 1877. № 9. С. 243-250.
- Васильев М. Г. О киреметях у чуваш и черемис. Казань: Типо-лит. Императ. ун-та, 1904. 50 с.
- Дуглас М. Чистота и опасность: = Purity and danger: Анализ представлений об осквернении и табу / пер. с англ. Р. Г. Громова. М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2000. 286 с.
- Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / пер. с фр. А. Апполонова и Т. Котельниковой. М.: Дело; РАНХиГС, 2018. 733 с.
- Ефремова Д. Ю., Устьянцев Г. Ю. Бог, дух и дьявол. Статус и образ керемета в современном марийском фольклоре // Традиционная культура. 2020. Т. 21, № 1. С. 114123. DOI: 10.26158/TK.2020.21.1.008.
- Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки. М.: Индрик, 1995. 292 с.
- Золотницкий М. И. Невидимый мир по шаманским воззрениям черемис: Из лекций в Казан. миссион. ин-те Н. И. Золотницкого. Казань: Университет. тип., 1877. 27 с.
- Кузнецов С. К. Культ умерших и загробные верования луговых черемис. Вятка: Губерн. тип., 1907. 76 с.
- Левкиевская Е. Е. Представления о «том свете» у восточных славян // Славянский альманах 2004. М., 2005. С. 342-367.
- Минвалеев С. А. Приметы о скорой смерти и представления о переходе в иной мир карел-людиков // Финно-угорский мир. 2022. Т. 14, № 3. С. 304-314. DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.03.304-314.
- Неклюдов С. Ю. Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной словесности // Восточная демонология. От народных верований к литературе. М., 1998. С. 6-43. URL: https://ruthenia.ru/ folklore/neckludov8.htm (дата обращения: 19.12.2022).
- Никанор (Каменский Никифор Тимофеевич). Черемисы и языческие верования их. Казань: Центр. тип., 1910. 26 с.
- Попов Н. С. Похоронные обряды и поминки // Марийцы. Историко-этнографи-ческие очерки = Марий калык. Историй сынан этнографий очерк-влак. 2-е изд., доп. Йошкар-Ола, 2013. С. 248-253.
- Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. М.: АСТ: Транзиткнига, 2003. 463 с.
- Семенов Т. С. Черемисы: этногр. очерк. М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1893. 37 с.
- Смирнов И. Н. Черемисы: ист.-этногр. очерк. Казань: Тип. Императ. ун-та, 1889. 265 с.
- Соколовский С. В. Антропология живого и неживого: случай тела и техники (послесловие к дискуссии) // Антропологический форум. 2018. № 38. С. 83-96. DOI: 10.31250/1815-8870-2018-14-38-83-96.
- Тойдыбекова Л. С. Марийская языческая вера и этническое самосознание. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 1997. 398 c.
- Устьянцев Г. Ю. Встреча с «нечистой»: отражение личных переживаний рассказчика в текстуальных особенностях нарра-тива (на примере марийской несказочной прозы) // Вестник антропологии. 2019. № 3. С. 235-242. DOI: 10.33876/23110546/2019-47-3/235-242.
- Устьянцев Г. Ю. Поро ден осал: репрезентация персонажей-антагонистов в современном марийском фольклоре // Социокультурное многообразие в современном мире: материалы ежегод. науч.-практ. конф. молодых ученых. М., 2019. С. 306-312.
- Черванева В. А. О некоторых особенностях обозначений мифологического персонажа в быличке // Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. Вып. 12: Народная культура сегодня и проблемы ее изучения: сб. ст.: материалы науч. регион. конф. Воронеж, 2012. С. 270-277.
- Шкалина Г. Е. Добро и Зло в марийской мифологии // Финно-угорский мир. 2009. № 2. С. 80-83.
- Шкалина Г. Е. Духовные основы культурного наследия народа мари // Финно-угорский мир. 2018. Т. 10, № 1. С. 110-120. DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.01.110120.
- Яковлев Г. Религиозные обряды черемис. Казань: Тип и лит. В. М. Ключникова, 1887. 87 с.
- Arukask M. Death and Afterwards // Folklore. Electronic Journal of Folklore. 1998. Vol. 8. P. 7-20. DOI: 10.7592/ FEJF1998.08.mds.
- Sebeok T. A., Ingemann F. J. Studies in Cheremis: The supernatural. New York: Wenner Gren Foundation for Anthropological Research, 1956. 360 p.
- Thomassen B. Liminality and the modern: Living through the In-Between. London: Routledge, 2016. 463 p. DOI: 10.4324/9781315592435.
- Tucker E. Ghost in mirrors: Reflections of the self // The Journal of American Folklore. 2005. Vol. 118, no. 468. P. 186-203. DOI: 10.1353/jaf.2005.0028.