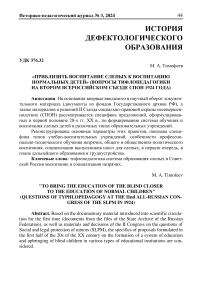"Приблизить воспитание слепых к воспитанию нормальных детей" (вопросы тифлопедагогики на втором всероссийском съезде СПОН 1924 года)
Автор: Тимофеев М.А.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История дефектологического образования
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
На основании впервые вводимого в научный оборот документального материала (документы из фондов Государственного архива РФ), а также материалов и решений II Съезда социально-правовой охраны несовершеннолетних (СПОН) рассматривается специфика предложений, сформулированных в первой половине 20-х гг. XX в., по формированию системы обучения и воспитания слепых детей в различных типах образовательных учреждений. Реконструированы основные параметры этих проектов, показана специфика типов учебно-воспитательных учреждений, особенности профессионально-технического обучения незрячих, общего и общественно-политического воспитания, социализации выпускников школ для слепых, в первую очередь, в плане дальнейшего образования и трудоустройства.
Тифлопедагогика, система образования слепых в советской россии, воспитание и социализация незрячих
Короткий адрес: https://sciup.org/140307598
IDR: 140307598 | УДК: 376.32
Текст научной статьи "Приблизить воспитание слепых к воспитанию нормальных детей" (вопросы тифлопедагогики на втором всероссийском съезде СПОН 1924 года)
Введение. Проблема становления системы образования и воспитания слепых в России в первой половине 20-х гг. XX в. является абсолютно не исследованной учеными и, вместе с тем, важной для формирования континуитета представлений об истории русской школы, отечественной педагогической мысли, дефектологической науки и специального образования.
II съезд СПОН, опираясь на предшествующую традицию, заложил основы воспитания, обучения и сопровождения незрячих в нашей стране. Положения, прописанные в его резолюциях, во многом определяют основные параметры социализации незрячих людей и в современном российском обществе.
Материалы и методы. Цель исследования – реконструкция подходов к системе образования и воспитания слепых детей в контексте процесса становления специальной педагогики в Советской России в первой половине 20-х гг. XX века. В качестве задач были выделены: источниковедческая – выявление и ввод в научный оборот архивного документального материала, а также ранее опубликованных, но забытых современными исследователями документов по данной проблематике; аналитическая – систематизация информации по теории и практике обучения и воспита- ния незрячих, их социализации, содержащейся в выступлениях участников специализированной Тифлосекции II съезда СПОН, в привязке к существовавшим социально-педагогическим тенденциям.
Источниками исследования выступают опубликованные документы Совета Народных Комиссаров РСФСР, материалы и резолюции II Всероссийского съезда СПОН, материалы Первого Всероссийского съезда по школьной санитарии, неопубликованные предложения П. М. Строева и А. Орловой по реформе системы образования для слепых 1918–1919 гг. из фондов ГА РФ, научные статьи и монографии по истории специального образования З. И. Марголина, А. Г. Басовой, Х. С. Замского и др.
В качестве методологической основы работы использованы историко-критические подходы, а также частные специальные методы – конкретно-исторический, историкосравнительный, содержательный анализ архивных текстовых материалов.
Результаты исследования. 26 ноября 2024 года исполнится 100 лет с начала работы Второго Всероссийского съезда социально-правовой охраны несовершеннолетних (СПОН). События, названного поворотным не только в борьбе с детской беспризорностью и преступностью, но и определившего изменение вектора развития советской специальной педагогики и дефектологической науки в целом. По существующей и сегодня в исторической науке традиции, которую начали целенаправленно формировать еще при подготовке съезда его участники и организаторы, значение II съезда СПОН состояло в том, что на нем призвали решительно покончить со старым, филантропическим подходом к работе с дефективными детьми, выстроить новую систему с особым учетом социального фактора воспитания, подготовить учащегося к самостоятельной трудовой и общественной жизни и «приобщить их к общественно полезной трудовой деятельности» [Резолюции, 1925, с. 28; Воспитание и обучение, 1928, с. 3]. Как писал Х. С. Замский, на II съезде СПОН «были сформулированы новые общие принципы решения теоретических вопросов воспитания аномальных детей» [Замский, 1995, с. 307; см. также: Воспитание и обучение, 1928, с. 216, 222–223].
Необходимо отметить, что системная постановка учебно-воспитательной работы со слепыми детьми была, наверное, одним из самых животрепещущих и проблемных вопросов системы просвещения Советской республики в области работы с детьми с нарушениями в развитии. Вплоть до конца 1923 года судьба образовательных учреждений для незрячих и вся тифлопроблематика в полной мере отражали ту атмосферу поиска новых форм деятельности, с одной стороны, и бюрократической, межведомственной несогласованности, с другой, которые были свойственны в этот период государственной политике в области специального образования. Общие же решения в области образования, которые принимались в 1918–1921 гг. и позволяли «увидеть учителям-практикам перспективы перестройки системы обучения и воспитания слепых, а также определить цели специальной государственной школы слепых» (Феоктистова, 1920, с. 21), не могли, по нашему мнению, в должной степени конкретизировать и определить все элементы содержания и методов обучения незрячих. О наличии «конкретного плана постановки сети учреждений дефективных детей» Н. К. Крупская скажет только в 1922 году, на Всероссийском съезде заведующих губернскими отделами народного образования [Феоктистова, 1980, с. 23]. К этому времени принципиальные вопросы межведомственного взаимодействия в вопросах обучения «телеснодефективных», в т. ч. слепых детей, будет в основных чертах решен. А пока, к 1924 году, профессиональное сообщество находилось отчасти в состоянии вечного поиска. Его хорошо выразил профессор Московского мединститута, известный офтальмолог Сергей Селиванович Головин: «Наши ста- рые организации по борьбе со слепотой и по оказанию помощи слепым находятся теперь в состоянии более или менее полного разрушения. Новые еще только возникают. Несомненно, они должны будут считаться со старым опытом и иметь в виду результаты, достигнутые в других странах» [Головин, 1924, с. 5].
Так, после принятия 27 июня 1918 года решения о передаче с 5 июля всех учебных заведений в ведение Наркомпроса, детские дома и приюты для слепых детей продолжали оставаться до 31 декабря 1919 года в ведении Наркомата социального обеспечения, к которому они были прикреплены после изменений общественного строя в стране в конце 1917 года [Сизова, 2008, с.89]. В марте 1919 года Первый съезд по школьной санитарии закрепляет в своих решениях работу с дефективными детьми, в т. ч. слепыми, за Наркомздравом [Первый всероссийский съезд, 1919, с.10; Карлов, 2019; см также Положение, 18.10.1919]. А 10 декабря того же года Постановлением Совнаркома работа со слепыми детьми была передана в ведение Наркомпроса [Постановление, 10.12.1919; см также: Первый всероссийский съезд, 1919; Карлов, 2019, с. 34].
Нельзя сказать, чтоб в это время не предпринималось попыток выработать некие предложения по возможным вариантам реформы/со-здания системы образования и воспитания слепых. Традиционно они исходили от частных лиц, так как Наркомат просвещения в эти годы на данный вопрос внимания практически не обращал [Строев, 1918, л.15].
4 ноября 1918 года свой проект реформы представил в Наркомпрос будущий видный деятель ВОС Павел Александрович Строев. 11 пунктов документа предполагали две ступени обучения, создание школ-интернатов, трудовое обучение, ориентированное на практические запросы общества, развитие брайлевского книгоиздания и др. А. Орлова предполагала разработать систему всеобщего и обучения для взрослых слепых, включающую организацию системы в том числе внешкольных учреждений, разработку всего комплекса учебно-методических пособий и пр. [Орлова, 1919, л.15об.].
Но вернемся непосредственно ко II съезду СПОН и обратимся к текстам прозвучавших на нем докладов по тифлотематике. В выступлениях сотрудников Наркомпроса РСФСР Отто Людвиговича Бема, Семена Сергеевича Тизанова шла речь о пересмотре генеральной линии работы учреждений социально-правовой охраны несовершеннолетних, об общих принципах социализации подростков, втягивании их в трудовую деятельность и т. п. «В области воспитания дефективных детей наша задача состоит в том, – говорил С. С. Тизанов, – чтобы связать специальную педагогику (сурдо, тифлопедагогику и пр.) с общими принципами и методами социального воспитания. Надо стремиться, по возможности, сгладить резкие различия между нормальными и дефективными детьми, необходимо помочь этим группам детей стать более или менее общественно полезными гражданами Республики» [Материалы, 1924, с.14].
И если «новое направление в развитии советской специальной педагогики» [Замский, 1995, с. 304.] и его основы, как принято считать, в дни работы съезда официально были озвучены в докладе Льва Семеновича Выготского, то в отдельных секциях рассматривались сугубо прикладные, практические вопросы работы с определенной категорией детей, в том числе с детьми, имеющими нарушения в развитии здоровья. Судя по всему, участники съезда сознательно выходили за рамки первоначального плана обсуждения вопросов беспризорности и детских домов, коснувшись «всех проблем советской дефектологии» и «коренной перестройки всей системы работы с аномальными детьми» [Замский, 1995, с. 305, 307].
Необходимо также отметить, что свою принципиальную позицию по изменению подходов к образованию дефективных детей организаторы и участники съезда частично выразили несколько ранее – в специально подготовленном и изданном к началу его работы сборнике «Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно-отсталых детей» [Вопросы, 1924]. В предисловии к книге редактор сборника (Л. С. Выготский) вынужденно констатировал, что постреволюционная перестройка специальной школы не коснулась и сейчас необходимо хотя бы поставить вопрос о специальной школе как вопрос социального воспитания [Вопросы, 1924, с. 3–4]. Часть статей – П. П. Почапина, А. В. Бирилева, П. Я. Ефремова – была непосредственно посвящена вопросам органи- зации образования и воспитания слепых детей. В них поднимались вопросы структуры сети образовательных учреждений, материальной базы и оборудования, положения педагогов, проблема отбора детей, вопросы самоуправления, трудового воспитания и трудоустройства детей после школы, их дальнейшего образования.
Помимо упомянутого сборника и программного выступления Л. С. Выготского, собственно тифлопедагогическая проблематика подробно рассматривалась в выступлениях участников на съезде на «Секции по работе со слепыми детьми». На них мы и обратим внимание, поскольку в них, а также в резолюциях по докладам, так или иначе отразились установки, сформулированные в «Вопросах воспитания».
Всего на секции прозвучало 6 докладов. Внимание выступающих было сфокусировано на четырех проблемных узлах: типы учебных заведений, реализуемые программы и планы; профессионально-техническое обучение слепых детей; вопросы воспитания слепых, в том числе общественно-политического, и социализация незрячих после выхода из стен учебного заведения. Кстати, следует отметить, что охват образовательными учреждениями слепых детей на тот момент в РСФСР был крайне невелик – по информации С. С. Тизанова, в республике насчитывалось 22 учреждения, в которых обучалось 1100 человек [Материалы, 1924, с.13].
Об общих целях воспитания слепых, изменении отношения к ним шла речь в выступлении выдающе- гося тифлопедагога, философа, психолога Александра Моисеевича Щербины [Материалы, 1924, с. 111–112]. Именно он сформулировал идею, которая найдет отражение в резолюциях Съезда, о воспитании в слепых понимания полезности их обществу и устранении чувства обособленности от других. Его доклад «К чему следует стремиться при воспитании слепых» говорил о трудностях, неизбежно встречающихся при решении этой проблемы.
Особое внимание Щербина обращал на необходимость борьбы с психологией «сепаратизма», которая свойственна незрячим и которую, к сожалению, зачастую культивировали в них сами общеобразовательные учреждения. Он особо подчеркивал важность постоянных контактов незрячих со зрячими, поскольку, по его словам, и тифлопедагоги не являются в массе своей горячими сторонниками совместного обучения слепых и зрячих, хотя такой подход дает, как заявлял он, «широкий простор для педагогического творчества» [Материалы, 1924, с. 112]. Понимая недостаток односторонней работы, он также призывал к системным трудам по изменению общественной психологии в плане восприятия слепых и их трудоспособности остальным «зрячим» обществом.
Для Щербины тема совместного обучения и, если можно так сказать, гармоничной «инфильтрации» незрячих людей в мир зрячих была не нова. Он не впервые пытался привлечь к ней внимание. Еще в феврале 1917 года в «Журнале Министерства народного просвещения» вышла его статья на тему совместного обучения слепых со зрячими [Щербина, 1917]. В ней он как раз и делал акцент на предоставление слепым возможности обучаться в учебных заведениях всех типов вместе со зрячими: «Я считаю крайне желатель-ным…предоставить им возможность, в каждом отдельном случае с разрешения педагогического совета или органа, его заменяющего, поступать в учебные заведения всех ти-пов…если есть основание рассчитывать, что они будут удовлетворять требованиям, предъявляемым их зрячим товарищам» [Щербина, 1917, с. 39]. Принципу максимальной социализации незрячих А. М. Щербина будет верен до конца жизни. О ней он будет говорить и несколько лет спустя, в 1927 году, на Первом всероссийском педологическом съезде [Щербина, 1928].
В деле пропаганды он видел оправданным соединять все возможные формы печатной и устной агитации и просвещения, отводя особое место наглядности при совместном обучении и труде слепых и зрячих.
Отдельно А. М. Щербина остановился на вопросе подготовке профессиональных тифлологов. Тема была актуальна, поскольку к тому моменту располагавший специально созданной В. П. Кащенко для В. А. Гандера профильной кафедрой Педагогический институт детской дефективности был ликвидирован (1 сентября 1924 г.) и объединен с Медико-Педологическим институтом Наркомздрава. По замыслу Александра Моисеевича, такая кафедра, которую он предложил создать при одном из педвузов, должна была обеспечить научный базис для улучшения быта слепых. Эта, а также существующие кафедры были призваны, по его мнению, играть роль именно научных центров, а не только структур, обеспечивавших развитие педагогической и методической мысли в работе с незрячими.
В свою очередь, Петр Георгиевич Мельников основной акцент в своем выступлении сделал на крайне важном организационном вопросе, типах и учебных планах учреждений для слепых. Напомним, что вышедшая в 1923 г. учебная программа, разработанная Государственным учебным советом для массовой школы, была принята и детским домами для слепых. Однако попытки работать по такой комплексной программе, пусть даже и с некоторыми коррективами, оказалась не очень удачной. Поэтому к съезду СПОН представители школ слепых пришли, как считает З. И. Марголин, к выводу о необходимости перехода на новую программу в объеме первой ступени [Марголин, 1940, с.72].
В своем выступлении П. Г. Мельников попытался охватить и эту проблему, наметив пути ее решения. Невозможность быстрого вырабатывания единого общего взгляда на работу со слепыми детьми он обосновывал отсутствием согласования позиций между различными ведомствами, Наркомпросом, Наркомздравом и Наркомсобесом, возникшим после революционных событий 1917 года [Материалы, 1924, с. 111]. Именно это и объясняло отсутствие единых программных и плановых указаний по работе в учреждениях для таких детей [Там же].
Он обратил внимание аудитории на то, что система социального воспитания, охватывая детей от 3 до 18 лет, включает в себя и соответствующую сеть учреждений для слепых. Мельников рассматривал как один из вариантов систему преемственных учреждений для слепых.
Первой ступенью в этой системе был специализированный детский сад для слепых детей, программа работы которого должна была принципиально отличаться от садов для зрячих детей [Материалы, 1924, с.111]. Второй ступенью предлагался детский дом – его работа планировалась по образцу прочих детских домов, но только с учетом специфики слепых детей [Там же].
Работа со слепыми подростками должна была строиться по более сложной схеме. Для них организовывался т. н. «Дом подростков», который должен был стать своего рода фильтром для группирования учеников по способностям, своеобразной профориентационной станцией. В нем предполагалось группировать детей по способностям, наклонностям и одаренности. Последнюю группу, одаренных детей, автор программы намечал для поступления в техникумы и вузы.
Наряду с этим в системе предусматривалось место и для детей с невысокими способностями, «тормозящими» занятия в детском доме – т. н. Дом для отсталых слепых.
В итоге программа занятий со слепыми детьми, ориентированная на программы ГУС’а, должна была охватить цикл знаний не ниже школы 1-й ступени. Однако программа, при сохранении принципа единства (ориентир – Положение о детдоме для зрячих детей), допускала и известную свободу маневра – ежегодный план занятий мог «изменяться» в зависимости от местных условий [Материалы, 1924, с.111].
М. Н. Соловьев в центр своего доклада поставил специфику реализации программы ГУС’а в школах слепых 1-й ступени. Поход к определению целей и задач обучения и воспитания незрячих детей был характерен для данного исторического момента. Они были те же, что и для зрячих учеников, с увеличением акцента на развитие персональной самостоятельности [Материалы, 1924, с.115].
Указанные цели-задачи определяли и содержание программ, которые должны были носить комплексный характер, а методика преподавания предполагала широкое разнообразие. М. Н. Соловьев также предупреждал об объективных трудностях в реализации образовательного процесса в связи с наличием в программе «материала, построенного исключительно на зрении и способах для изучения только зрячих» [Там же].
В связи с общими установками организаторов съезда большое место в его работе заняли вопросы трудового воспитания незрячих учащихся. Так, А. В. Соколовский в своем докладе обозначил основные параметры профессионально-технического обучения слепых. Оно должно было решать две задачи: подготовку рабочих кадров из числа незрячих для той или иной отрасли и их социализацию. В целом же, школа для слепых, осуществляющая профессио- нально-техническое обучение, рассматривалась им как важный источник кадров для определенных секторов советской промышленности.
А. В. Соколовский предлагал принципиально изменить основной принцип самого производственного воспитания – перейти от предметнокустарного подхода к плановому отбору учащихся для обучения профессии и их целевой подготовке. Производственное воспитание должно гарантировать целевой отбор учащихся, учитывающий его психофизический склад, рационально организованный, практико-ориентированный процесс обучения в мастерских, стимулирующую к развитию среду. В работе учитывались и возрастные особенности – с 9 до 11 лет планировались подготовительные занятия, а с 11 до 15 уже регулярные классногрупповые по определенным специальностям [Материалы, 1924, с. 113]. Затем с 15 до 17 лет учащиеся проходили курс обучения в т. н. ремесленных классах, после чего еще год – в производственных мастерских, которые сами по себе являются обучающим элементом, вводящим слепого в систему организации производства [Материалы, 1924, с. 114].
Усиление работы в этом направлении, по мысли А. В. Соколовского, было возможно практически повсюду даже при существующей системе учебных заведений.
Тема социализации или «трудовой помощи» после получения незрячими учащимися образования была продолжена в выступлениях А. С. Розанова [Материалы, 1924, с. 115–117]. Напомнив участникам съезда о главной цели воспитания и обучения незрячих – получении всестороннего общего, политического и трудового образования, которое бы дало им возможность, при некоторой поддержки государства, существовать своим трудом, он рассмотрел 12 аспектов этого процесса. По его мнению, в судьбе слепого, выходящего из учебного заведения, должны принимать участие три ведомства – Наркомпрос, Наркомздрав и Народный комиссариат по социальному обеспечению. Слепому должны быть доступны все учебные заведения – техникумы, рабфаки и университеты, куда смогут поступать талантливые незрячие. Полученные в школе трудовые навыки следует постоянно совершенствовать – для этого желательно открыть специальные техникумы для слепых или мастерские с расширенной по сравнению со школьной программой подготовки.
Отдельным пунктом А. С. Розанов выделял музыкальное образование слепых – тему очень важную, в первую очередь, для Москвы, где вопрос музыкального образования незрячих стоял на повестке дня с 1918 года (подробнее см., например, ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 13. Д. 38 и др.). Он предлагал открыть в Москве и Ленинграде специальные музыкальные училища для слепых, а слепым музыкантам целесообразно создать профильное объединение.
Трудоустройству незрячих так или иначе посвящена половина пунктов. А. С. Розанов уверен, что слепые могут и должны работать в образовательных учреждениях в качестве педагогов как для зрячих, так и, в силу опыта, для незрячих учащихся. Вто- рой вариант «образовательного» трудоустройства незрячего, по А. С. Розанову – культурный работник в сельской местности [Материалы, 1924, с. 118].
Непосредственно работе слепых на производстве отводится три пункта. Они ожидаемо отражают форматы экономической жизни, характерные для 20-х гг. прошлого века. Труд слепых, указывает А. С. Розанов, эффективно показал себя в формате инвалидной кооперации. Целесообразно использовать и кустарную форму при первичной материальной поддержке государства, считает Розанов. В целом кооперация, организация слепых в артели видится ему наиболее оправданным и эффективным со всех точек зрения выходом. Артель поможет слепому организовать свою деятельность, получить навыки управления производством, с одной стороны, а с другой – избавит его от психологии иждивенчества и «снимет» в итоге с государственных дотаций.
Кроме того, А. С. Розанов призывал к активному изучению немецкого опыта трудоустройства слепых в плане расширения перечня профессий, где может быть применен труд незрячего человека, о котором рассказал выдающийся офтальмолог С. С. Головин в своей брошюре «Современная постановка социальной помощи слепым», изданной в 1924 году. Он также ознакомил участников съезда с опытом общественнополитического воспитания слепых в областном детском доме (г. Кострома).
Резолюции, принятые по итогам работы секции, вобрали в себя бóльшую часть выдвинутых предложений. Были определены магистральные направления деятельности педагогов специального образования. Так, в области воспитания и образования дефективных детей специальную педагогику необходимо было «связать с общими принципами и методами социального воспитания, ставя целью помочь и этим группам детей сделаться общественно полезными гражданами Республики» [Резолюции, 1925, с. 5], а также обязательное следование принципу отбора детей в учреждения с учетом потребностей в рабочей силе или «иной трудовой общественно полезной деятельности» [Резолюции, 1925, с. 4]. Но в целом специальное образование должно было быть уложено в прокрустово ложе программы нормальной школы, хоть и с оговоркой: «В основу учебной работы должны быть положены и приспособлены всякий раз к особенностям учреждений программы ГУС’а» [Резолюции, 1925, с. 28].
Интересно, что резолютивная часть в основном приняла рекомендации и предложения, изложенные тифлопедагогами. Так, в резолюции по докладу А. М Щербины подчеркивалась необходимость «решительно воплощать принцип социального воспитания, чтобы слепые не чувствовали оторванности и стали активными строителями новой жизни» [Резолюции, 1925, с. 29]. Было принято и его предложение приблизить воспитание слепых к воспитанию нормальных детей и расширить сеть спецучреждений для слепых». А формулировка о совместном обучении почти дословно повторяла текст его статьи из ЖМНП 1917 года: «[слепые] также имеют право поступать и в учреждения для зрячих, с разрешения руководства, если будет понятно, что они смогут выполнить основные требования, которые в них предъявляют для зрячих учеников» [Резолюции, 1925, с. 30].
Остальная часть резолюции фактически повторяла другие его предложения: создание особого фонда на приобретение пособий для незрячих и на дополнительные выплаты персоналу, пропаганда вопроса трудоспособности и доверии к слепым, в т. ч. среди преподавателей и широких народных масс, проведение ряда экспериментальных исследований по использованию труда слепых в промышленности, организация издания специальной литературы для слепых и отдельного журнала. И, что было крайне важно для поддержки дефектологической науки, организация «научно-исследовательской кафедры тифлологии для всестороннего изучения жизни слепых в прошлом и настоящем, а равно для изыскания наиболее целесообразных мер для улучшения их быта…».
В отношении докладов Мельникова и Соколовского были определены типы детских учреждений для слепых: детский сад-интернат для детей от 3 до 7 лет; детский дом-школа для детей от 7 до 13–14 лет, дом слепых подростков от 14 до 19 лет и дом отсталых слепых (эти два типа в областных городах были обязательны). Школьные занятия в детском доме строятся по программе школ I ступени ГУСа. Дом подростков должен был стать учреждением с профессиональным уклоном, а те, кто проявит способности, могли поступать в школу II-й ступени для слепых и продолжать образование совместно с зрячими в техникумах, профессиональных школах и вузах [Резолюции, 1925, с. 31].
Учебные планы учреждения для слепых должны были иметь уклон в сторону профессиональнотехнического образования. Кроме того, рекомендовалось уделить особое внимание вопросу ликвидации безграмотности среди слепых подростков.
Что касается судьбы незрячих после окончания школы, то здесь съезд проявил завидное единодушие: решению этого вопроса «должны помогать все структуры – партийные, государственные, общественные. И здесь должно быть налажено четкое взаимодействие незрячего с обществом слепых, которое и должно выступить инициатором такого взаимодействия» [Резолюции, 1925, с. 31]. При этом дело выпуска печатной продукции и учебных пособий для слепых съезд предлагал передать в ведение Наркомпроса [Резолюции, 1925, с. 31].
Обсуждение результатов. В целом, можно полностью согласиться с тезисом З. И. Марголина о том, что перед школой слепых на съезде и по его итогам были поставлены «общие со всеми учреждениями социального воспитания задачи» [Марголин, 1940, с.77]. Вместе с тем, проведенный анализ документального материала позволил выявить специфику становления системы обучения и воспитания слепых, ранее не бывшую предметом исторического исследования.
Научная публикация итогов изучения этих материалов способствует не только реконструкции важного эпизода истории отечественной науки и педагогики, но и предоставляет практический материал для организации работ в этом направлении сегодня с учетом предшествующего опыта российской тифлопедагогики.
Заключение. На основании впервые вводимых в оборот, а также редко используемых материалов 20-х гг. XX в., обращавшихся к проблемам обучения и воспитания слепых детей, можно утверждать, что II Съезд СПОН, будучи рубежным мероприятием в деле формирования системы специальной педагогики и становления отечественной дефектологии, принял большинство сформулированных его участниками-тифлопедагогами положений, направленных на создание новой матрицы обучения и воспитания слепых, учитывающей достижения дореволюционной педагогики, но, в большей степени, ориентированной на ключевые общественные и политические задачи текущего момента.
Список литературы "Приблизить воспитание слепых к воспитанию нормальных детей" (вопросы тифлопедагогики на втором всероссийском съезде СПОН 1924 года)
- Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно-отсталых детей: сб. статей и материалов / под ред. Л. С. Выготского. – Москва: Отдел СПОН Главсоцвоса Нарком-проса РСФСР, 1924. – 157 с. – Текст: непосредственный.
- Материалы ко Второму Всероссийскому съезду социально-правовой охраны детей и подростков и детских домов, 26 ноября 1924 г.: Разработ. отд. СПОН и Детдомов Главсоцвоса и подсекцией социально-правовой охраны детей и подростков Науч.-Педагогической секции Гос. ученого совета. – Москва: [б. и.], 1924. – 176 с. – Текст: непосредственный.
- Орлова, А. Взрослые слепцы перед вопросом всеобщего обучения // ГА РФ. Ф. А–1575. Оп. 6. Д. 182. Л. 14–15 об.
- Первый Всероссийский съезд по школьной санитарии. – Москва: Нар. ком. здрав., 1919. – 16 с. – Текст: непосредственный.
- Положение о согласовании функции Наркомздрава и Нарком-проса в деле охраны здоровья детей,
- 14 октября 1919 г. // Сборник декретов и постановлений рабоче-крестьянского правительства по народному образованию. – 1920. – № 2. – С. 164–165. – Текст: непосредственный.
- Постановление Совета Народных Комиссаров о согласовании функций Наркомпроса и Наркомздрава в деле воспитания и охраны здоровья дефективных детей, 12 декабря 1919 г. // ГА РФ. Ф. А–1575. Оп. 6. Д. 182. Л. 5. – Текст: непосредственный.
- Резолюции по докладам Второго Всероссийского съезда социально-правовой охраны несовершеннолетних, 26 ноября – 1 декабря 1924 г. – Москва: [Госмастерская Педагогич. Театра], 1925. – 37 с. – Текст: непосредственный.
- Строев, П. А. Проект реформы школы слепых // ГА РФ. Ф. А–482. Оп. 11. Д. 12. Л. 15–18 об. – Текст: непосредственный.
- Щербина, А. М. Необходимость социального подхода при изучении особенностей слепых // Основные проблемы педологии в СССР. (По тезисам Первого всерос. педологич. съезда 27/XII-1927 г. – 3/I – 1928 г.). – Москва: Оргбюро Съезда, 1928. – С.144–145. – Текст: непосредственный.
- Басова, А. Г. История сурдопедагогики: [Учеб. пособие для дефектол. фак. пед. ин-тов] / А. Г. Басова, С. Ф. Егоров. – Москва: Просвещение, 1984. – 295 с. – Текст: непосредственный.
- Воспитание и обучение физически дефективного ребенка: сб. статей / под ред. С. С. Тизанова и Л. В. Занкова. – Москва – Ленинград: ГИЗ, 1928. – 63 с. – Текст: непосредственный.
- Головин, С. С. Современная постановка социальной помощи слепым. – Москва: изд-во В. В. Думнов, 1924. – 32 с. – Текст: непосредственный.
- Замский, Х. С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспитания и обучения с древних времен до середины XX века: Приложение: Дневник Е. К. Грачевой. – Москва: НПО «Образование», 1995. — 400 с. – Текст: непосредственный.
- Иванов, В. Д. Развитие педагогики трудного детства до и после Октябрьской революции. – Москва – Ленинград: Учпедгиз, 1932. – 88 с. – Текст: непосредственный.
- Карлов, С. В. Социальное положении незрячих в России накануне октября 1917 г. и в первые годы Советской власти // Манускрипт. – 2019. – Т.12. вып.6. – С. 30–39. – Текст: электронный.
- Марголин, З. И. История обучения слепых. – Москва: Учпедгиз, 1940. – 136 с. – Текст: непосредственный.
- Сизова, А. И. Из истории обучения слепых детей. – Москва: [б. и.], 2008. – 301 с. – Текст: непосредственный.
- Умственная отсталостьслепота и глухонемота: Психофизиология. Педагогика. Профилактика: [Сборник] / Под ред. Я. Р. Гайлиса, Л. В.Занкова, С. С. Тизанова. – [Москва]: Долой неграмотность, [1927]. – 320 с. – Текст: непосредственный.
- Феоктистова, В. А. История советской тифлопедагогики, школы слепых и слабовидящих. – Ленинград: [ЛГПИ им. А. И. Герцена], 1980. – 70 с. – Текст: непосредственный.
- Щербина, А. М. О совместном образовании слепых со зрячими / А. М. Щербина. – Текст: непосредственный // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. – Ч. LXVII. – 1917. – Февраль. – С. 34–39. – Текст: непосредственный.