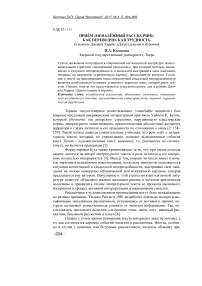Приём "ненадёжный рассказчик" как переводческая трудность (в романе Джоанн Харрис "Джентльмены и игроки")
Автор: Колосова Полина Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена популярной в современной англоязычной литературе повествовательной стратегии «ненадёжный рассказчик», при которой читатель оказывается в ситуации неопределённости и вынужден выстраивать свои ожидания, опираясь на намеренно ограниченную картину, предлагаемую автором. Создание в тексте на принимающем языке аналогичной смысловой неопределённости является необходимым условием успешного перевода таких литературных текстов. Однако, иногда это представляется затруднительным, как в романе Джоанн Харрис «Джентльмены и игроки».
Ненадёжный рассказчик, обманутое ожидание, понимание художественного текста, грамматическая категория рода, перевод, переводческая трудность
Короткий адрес: https://sciup.org/146278355
IDR: 146278355 | УДК: 821.111
Текст научной статьи Приём "ненадёжный рассказчик" как переводческая трудность (в романе Джоанн Харрис "Джентльмены и игроки")
Термин «недостоверное повествование» («unreliable narration») был впервые предложен американским литературным критиком Уейном К. Бутом, который обозначил так авторскую стратегию, нарушающую классические нормы литературного повествования, предполагающие абсолютный авторитет нарратора в глазах читателя и его правдивость по отношению к нему [2: 158– 159]. Такой подход кажется сомнительным, учитывая, что речь идёт о литературном тексте, который, по определению, излагает вымышленные события (англ. fiction – художественный текст, вымысел), т.е. реальности не соответствует, не является правдивым [5].
Формулировка Бута также критиковалась за то, что при таком подходе акцент делается на авторе литературного текста, а роль читателя и его восприятие полностью игнорируются [4]. Между тем, именно читатель имеет ключевое значение в ненадёжном повествовании, поскольку именно он оказывается в ситуации когнитивной и смысловой неопределённости, выстраивая свои ожидания на основе намеренно ограниченной или искажённой картины, которая предлагается ему автором. Популярность этой стратегии в англоязычной литературе зачастую объясняют именно желанием развить в читателе критическое мышление и превратить чтение литературного текста из процесса пассивного восприятия в процесс активной интерпретации и наращивания смыслов.
Рассказчики в художественном произведении могут быть ненадёжными по разным причинам. Уильям Ригган в 1981 разработал довольно полную классификацию ненадёжных рассказчиков, отталкиваясь от мотивов и причин, которые заставляют повествователя утаивать от читателя информацию. Так, исследователь предлагает выделять следующие типы: лжец, плут, наивный рассказчик, безумный рассказчик и клоун [6].
Однако с точки зрения понимания текста интересны даже не мотивы, а то, как соотносятся картины событий читателя и рассказчика. Иногда, особенно в случае с наивным или безумным рассказчиком, читатель обладает пре- имуществом, его картина событий оказывается более полной, поскольку сам рассказчик не в состоянии выстроить логические связи между событиями по тем или иным причинам, при этом утаивание информации происходит ненамеренно с точки зрения нарратора. Примером такого повествования могут служить роман Марка Хэддона «The Curious Incident of the Dog in the Night-time», где рассказ ведётся от лица пятнадцатилетнего мальчика, страдающего аутизмом, и роман Эммы Хили «Elizabeth is Missing», написанный с точки зрения восьмидесятилетней женщины, подверженной старческой деменции. Тем не менее, гораздо более распространённой оказывается ситуация, когда читатель является менее осведомленной стороной, даже не потому что вынужден отталкиваться от ограниченного какими-либо психологическими факторами видения рассказчика, а потому что нарратор намеренно искажает информацию или подаёт её дозировано.
Именно этот второй нарратор представляет интерес с точки зрения создания эффекта ложных ожиданий, поскольку читатель вынужден самостоятельно выстраивать его образ c его же слов. Опираясь на текст, по сути, невозможно чётко установить даже гендерную пренадлежность этого героя. В английском языке нет грамматической категории рода ни у глаголов, ни у имён прилагательных и существительных, поэтому при повествовании от первого лица пол героя остаётся загадкой, если только повествователь не сообщает нам об этом сам. Тем временем, рассказчик не указывает прямо на свою половую принадлежность, но всячески косвенно подталкивает читателя к выводу о том, что перед нами мальчик, а в «настоящем» уже повзрослевший мужчина, один из учителей-новичков. Так, во второй главе герой вспоминает:
«My father, you see, would have liked to have a son in his own image; a lad who shared his passion for football and scratch cards and fish and chips, his mistrust of women, his love of outdoors. <…> Instead, he had me. Neither fish nor fowl; a useless daydreamer, a reader of books and watcher of B movies, a secretive, skinny, pallid, insipid child with no interest in sports and whose personality was as solitary as his own was gregarious. He did his best, though. He tried, even when I did not. He took me to football matches, during which I was heartily bored. He bought me a bicycle, which I rode with dutiful regularity…» [3: 15].
После прочтения этого эпизода у читателя фактически уже не остается сомнений, хотя, справедливости ради, надо отметить, что прямых указаний текст не содержит, а описанное поведение отца рассказчика в другом контексте вполне могло бы быть проинтерпретировано как довольно типичное пове- дение отца, который очень хотел сына, но у него родилась дочь. Тем не менее, в контексте романа, где рассказчик вскоре начинает совершать вылазки в частную школу для мальчиков, переодевшись одним из учеников, мы не сомневаемся, что мы имеем дело с мальчиком-подростком. Даже когда рассказчик влюбляется в одного из учеников школы, и тот его отвергает, читатель интерпретирует это как гомосексуальное влечение, не видит в этом ничего особенно странного и даже может связать это с обидой рассказчика на мать, бросившую их с отцом ради лучшей жизни. К тому же история любви обрывается трагической гибелью мальчика сразу после признания.
Кроме временного пласта прошлого, к которому относятся воспоминания второго рассказчика, в романе есть «настоящее», где его история накладывается на историю Роя Стрейтли. Здесь и разворачивается главная интрига. Читателю становится понятно, что пожилому учителю и школе «Сент-Освальд» в целом мстит второй рассказчик, он же в настоящем один из его четверых новых коллег - троих мужчин и одной женщины. Автор снова ставит читателя в ситуацию неопределённости. Читатель вместе со Стрейтли пытается вычислить, кто из новеньких стоит за происходящим. При этом читатель вроде бы обладает преимуществом перед Стрейтли, поскольку его картина событий, складывается ещё и из рассказа самого их виновника. Тем не менее, он исходит из того, что это мужчина, и совершает большую ошибку вместе со Стрейтли.
Автор осуществляет разоблачение своего героя так же, как и вводил нас в заблуждение до этого, при помощи деталей. Так, в решающий момент из очередных воспоминаний рассказчика читатель узнаёт, что мама присылает ему одежду довольно странных для мальчика-подростка цветов - «lit^tle sweaters in sugared-almond colors, two coats (a red one for winter and a green one for spring)» [3: 149]. И с этого момента мы понимаем, что заблуждались по поводу половой принадлежности рассказчика, и соответственно виновника событий в настоящем. Тем временем, автор даёт нам понять, что именно это помешало Стрейтли в прошлом увидеть в Джулии Снайд, мальчика Джулиана Пинчбека, загадочным образом причастного к гибели одного из его учеников.
Таким образом, ключевой момент романа - это неопределённость половой принадлежности одного из нарраторов. Если в английском языке это становится возможным благодаря отсутствию грамматической категории рода у существительных, прилагательных и глаголов, то при переводе возникают сложности, связанные с тем, что у прилагательных и глаголов первого лица, единственного числа прошедшего времени в русском языке эта категория есть и обязательно должна быть выражена. Это означает, что такие простые и естественные конструкции как «I came…», «I sat...», «I discovered…», «I was alone...» и т.д. в воспоминаниях рассказчика, с которыми мы сталкиваемся с первых же страниц романа, не могут быть прямо переведены на русский язык, поскольку это не позволит переводчику сохранить требующейся для адекватного чтения романа неопределённости.
Если обратиться к единственному существующему переводу романа «Джентльмены и игроки» на русский язык, можно обнаружить, что переводчица Татьяна Старостина выходит из положения, используя переводческие трансформации, а именно прибегая к безличным конструкциям и историче-- 206 - скому настоящему (praesens historicum) для описания событий прошлого. Приведём несколько примеров из первой главы:
«So I sat at a respectful distance and observed the restricted area» [3: 7].
«И вот я сижу на почтительном расстоянии от границы и разглядываю запрещенную территорию» [1: 15].
«I discovered that most of St. Oswald’s was screened from public view…» [3: 7].
«Выяснилось, что большая часть школьной территории снаружи не видна…» [1: 13].
Надо сказать, что переводчица последовательно придерживается этой стратегии на протяжении большей части романа, там, где это необходимо. Однако в некоторых моментах полную неопределённость сохранить не удаётся, и у читателей перевода появляются основания склониться к тому или иному варианту, как в следующем отрывке:
«I no longer felt like a daring explorer. I had no right to be there. I had become something low, common, a spy, a prowler, a dirty little sneak with hungry eyes and light fingers» [3: 9].
«Какая глупость – вообразить себя отважным исследователем. У меня нет права находиться здесь. Я жалкое пошлое создание, мелкий шпион и воришка, грязное существо с голодными глазами и вороватыми пальцами» [1: 21]
Для характеристики персонажа в переводе выбираются существительные мужского рода «шпион» и «воришка», у которых в русском языке есть аналоги женского рода, и это не единичный случай. Тем не менее, переводчица старается сохранить баланс, местами подталкивая читателей и к противоположным выводам. Так, в переводе отец зовёт рассказчика «детка», а мать – «лапушка», что скорее приемлемо для маленького ребёнка или девочки, но никак не для мальчика-подростка.
Ещё одной проблемой является широкое использование в переводе исторического настоящего времени для изложения воспоминаний рассказчика, поскольку порой в тексте они идут бок о бок с «настоящими» событиями жизни нарратора, и это вносит некоторую путаницу при чтении текста.
И только после разоблачения, когда поддерживать неопределённость уже не имеет смысла, переводчица начинает вводить в текст глаголы первого лица, единственного числа, женского рода, но делает это аккуратно и постепенно, видимо, чтобы не было резкого контраста между повествованием до и повествованием после того как читателю открывается правда.
Подводя итог, можно отметить, что приём «ненадёжный рассказчик» действительно может стать дополнительной переводческой трудностью. Однако, при рефлексивном подходе к переводу, предполагающем тщательный предпереводческий анализ художественного текста, эта трудность вполне преодолима, как это доказывает в целом очень удачный перевод Татьяны Старостиной.
Список литературы Приём "ненадёжный рассказчик" как переводческая трудность (в романе Джоанн Харрис "Джентльмены и игроки")
- Харрис Дж. Джентльмены и игроки. М.: Эксмо, 2010. 544 с.
- Booth W.C. The Rhetoric of Fiction. University of Chicago Press, 1961. 455 p.
- Harris J. Gentlemen & Players. Black Swan, 2006. 172 p.
- Nunning A. But why will you say that I am mad?: On the Theory, History, and Signals of Unreliable Narration in British Fiction//Arbeiten zu Anglistik und Amerikanistik. 1997. Nr. 22. P. 83-105.
- Rabinowitz P.J. Truth in Fiction: A Reexamination of Audiences//Critical Inquiry. 1977. Nr. 1 P. 121-141
- Riggan W. Picaros, Madmen, Naifs, and Clowns: The Unreliable First-person Narrator. University of Oklahoma Press, 1982. 240 p.