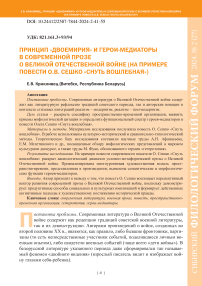Принцип «двоемирия» и герои-медиаторы в современной прозе о Великой Отечественной войне (на примере повести О.В. Сешко «Снуть вошлебная»)
Автор: Крикливец Е.В.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Литературоведение. Русская трикстериада: герои и антигерои в зеркале времени
Статья в выпуске: 2 (27), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Современная литература о Великой Отечественной войне содержит как литературную рефлексию традиций советского периода, так и авторские новации в контексте стилевых интеграций реализм - модернизм, реализм - постмодернизм. Цель статьи - раскрыть специфику пространственно-временной организации, выявить приемы мифологической цитации и определить функциональный спектр героев-медиаторов в повести Олега Сешко «Снуть вошлебная».
Современная литература, военная проза, повесть, пространственно-временная организация, гетеротопия, герои-медиаторы
Короткий адрес: https://sciup.org/144163140
IDR: 144163140 | УДК: 821.161.3+93/94 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-2-41-55
Текст научной статьи Принцип «двоемирия» и герои-медиаторы в современной прозе о Великой Отечественной войне (на примере повести О.В. Сешко «Снуть вошлебная»)
П остановка проблемы . Современная литература о Великой Отечественной войне содержит как рецепцию традиций советской военной литературы, так и их деконструкцию. Авторами произведений о войне, созданных во второй половине ХХ в., являются, как правило, либо бывшие фронтовики, партизаны (то есть непосредственные участники событий, поделившиеся личным военным опытом), либо свидетели военных событий (чаще всего «дети войны»). В белорусской литературе указанного периода даже сформировался так называемый феномен «двойного видения» (взрослый писатель видит и изображает войну глазами себя-ребенка).
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
В произведениях современной литературы, появившихся после 2000-х гг., военное прошлое осмысливается опосредованно (на основе архивных данных, научных и публицистических источников, творческого наследия предшественников). Временная отдаленность от событий военной действительности и наличие информационного и культурного «буфера», с одной стороны, привели к появлению «вторичной литературы» (писатели используют избитые сюжетные ходы, в произведениях отсутствуют новизна конфликта и типологии героев), с другой – открыли новые возможности моделирования художественной реальности в стилевой интеграции реализма и модернизма, реализма и постмодернизма. Отдельным аспектам идейно-тематической и стилистической трансформации новейшей военной прозы посвящены работы Д.В. Аристова [Аристов, 2010], Н.В. Ковтун [Ковтун, 2020], Т.Н. Марковой [Маркова, 2016], Л.Н. Скаковской [Скаковская, 2015] и др.
Можно утверждать, что в современной литературе о Великой Отечественной войне художественной репрезентации подлежит не личный военный опыт (не трагедия собственного поколения), а историческая память страны и народа, что предполагает новые подходы к созданию когнитивных художественных моделей и новые способы филологической экспликации культурных и социальных кодов с учетом жанрово-стилевой специфики произведений.
Цель статьи – раскрыть специфику пространственно-временной организации, выявить приемы мифологической цитации и определить функциональный спектр героев-медиаторов в повести Олега Сешко «Снуть вошлебная».
Обзор научной литературы по проблеме . Олег Витальевич Сешко – поэт, прозаик, член Союза писателей России, капитан второго ранга запаса, родился в 1969 г. в Ленинграде, в настоящее время проживает в Витебске (Республика Беларусь). Повесть «Снуть вошлебная» увидела свет в 2023 г. и еще не вошла в научный обиход. Поэтому теоретическую базу исследования составили научные труды А.Н. Афанасьева [Афанасьев, 1995], Е.М. Мелетинского [Мифологический словарь, 1991], М.В. Семеновой [Семенова, 2007], посвященные обзору мировых (в том числе славянской) мифологических традиций, что позволило определить генезис и семантику используемых в повести мифологем. Кроме того, в работе использованы результаты научных изысканий белорусского литературоведа Г.Л. Нефагиной в области стилевой динамики и интеграционных явлений в отечественной прозе конца ХХ в. [Нефагина1, 1999], поскольку повесть О. Сешко «Снуть вошлебная» (2023) продолжает традиции условно-метафорической прозы названного периода.
Материалы и методы. Материалом исследования послужила повесть современного автора О. Сешко «Снуть вошлебная». В работе использованы культурноисторический и сравнительно-типологический методы, позволившие ввести произведение новейшей литературы в научный обиход, выявить способы литературной рефлексии и вектор индивидуальных творческих поисков автора.
Результаты исследования . Освоение (и усвоение) элементов неореалистической эстетики на рубеже столетий не было однородным и одномоментным. Неправомерно пытаться обозначить точные вехи перехода от реализма к модернизму и постмодернизму, а зачастую невозможно атрибутировать произведение как принадлежащее к той или иной художественной системе. Нам представляется более правильным говорить о взаимовлиянии и взаимопроникновении различных принципов художественного обобщения и эстетической оценки действительности, о наличии в прозе последней трети ХХ в. и на современном этапе целого ряда диффузных явлений, расширяющих стилевые границы произведений. При этом необходимо помнить, что реализм в литературном процессе последних десятилетий отнюдь не находится в стадии угасания, а представляет собой развитую художественную систему, способную к интеграции с другими направлениями и активно ассимилирующую новые для себя эстетические методы и приемы. Это и становится основной причиной стилевых трансформаций: «Изменение типизации как способа художественного обобщения мифологизацией размывает реалистическую парадигму, создает основу для образования условно-метафорического направления, а дополнение еще и моделированием мира по мифологическому принципу может способствовать мутации самой условно-метафорической прозы» [Нефагина, 1999, с. 18].
Художественное миромоделирование в повести О. Сешко «Снуть вошлеб-ная» представляет собой переплетение нескольких пространственно-временных планов, или нескольких альтернативных реальностей, обладающих самостоятельными повествовательными дискурсами и коммуникативными задачами. Первый пространственно-временной план – маленький заполярный поселок, наши дни. Семиклассница Катя Соколова переезжает с родителями из большого города к новому месту службы отца. С данным континуумом связан ряд социальных и нравственно-философских проблем современности. Автор затрагивает тему взаимоотношений в подростковой среде, дружбы, первой влюбленности. Психологически точно на примере главной героини и ее новых одноклассников О. Сешко изображает внутренние переживания и конфликты подростков: трудность в принятии себя, происходящих трансформаций, поиск своего места в микро- и макросоциуме (в повести он получает определение «независимой нужности»): «Сейчас тяжело точно определить, когда и как появилось впервые это состояние поиска независимой нужности. В какой момент захотелось выкрасить волосы в черный цвет, чтобы обратить на себя внимание? И почему вдруг, так явно ощущая нехватку внимания к себе, она в то же время стала избегать откровенных разговоров с родителями, прогулок с папой и мамой? Почему уединялась от навязчивых одноклассников и все чаще и чаще оставалась наедине с собой и своими новыми мыслями? Почему?» [Сешко, 2022, с. 8].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
В произведении имеет место добрая ирония автора над атрибутикой подростковых субкультур. Важное место отводит писатель анализу взаимоотношений детей и родителей. В повести подробно описаны две семьи с разными моделями семейного воспитания: несколько идеализированная семья Кати Соколовой и наполненная скрытым трагизмом история родительской семьи Миши Сидорова, старосты класса в поселковой школе. Частые отсутствия отца и психическая болезнь матери заставляют Мишу повзрослеть, заменить родителей младшим братьям и сестрам, даже рискнуть собой ради спасения мамы и восстановления семьи. Автор убедительно показывает, что иногда для достижения гармонии не только детям приходится менять форму поведения, но и взрослым - трудным путем идти к осознанию своей зрелости и ответственности за совершенные поступки.
В этой привычной реальности Катя находит в новой квартире за батареей маленькую, с ладонь подростка, куклу из бересты и куска тряпки. «Акка» - так называет ее одноклассница Аня Кочкина и поясняет: «Раньше бабушки дарили ее внукам. Знаешь, Акка ведь с саамского переводится как ‟бабушка”. А сейчас дети делают таких кукол в клубе. Ничего в ней нет. Никакого толка. Саамская народная игрушка» [Сешко, 2022, с. 25]. Однако жизнь девочки неожиданно меняется.
В ночных сновидениях Катя перемещается в город, в котором разворачиваются трагические события начала Великой Отечественной войны. В настоящее время, когда особенно актуальной становится проблема сохранения исторической памяти, появляется корпус произведений о Великой Отечественной войне ярко выраженной дидактической направленности. В повести «Снуть вошлебная» автор раскрывает перед читателем страшные страницы военной истории, используя приемы вторичной художественной условности (мифологической или фантастической).
Следует отметить, что пространственно-временной континуум, связанный с судьбой военного города, имеет документальную основу. В произведении нет конкретных отсылок к прецедентным именам и датам, однако образ города, который кажется Кате до удивления родным и знакомым, очевидно «списан» автором с довоенного и военного Витебска. В повести описаны оккупация города немецко-фашистскими захватчиками, создание и уничтожение витебского гетто. Катя снится себе в образе маленькой крылатой девочки, Стрекозы, как называет ее дворник Яков, наблюдающей за разворачивающейся трагедией еврейской семьи маленького мальчика Левы, которому так и не суждено было пойти в первый класс, и всего города. Потом она обнаруживает свое умение управлять солнечными лучиками и посылает их на помощь людям.
Затронутый автором историко-социальный пласт обусловливает обращение к традиционной для советской военной прозы проблеме нравственного выбора в пограничной ситуации. Результатом нравственного выбора становятся духовная эволюция или духовная деградация героев. Нравственный выбор совершает Лева, который, несмотря на возраст, оказывается способным не только осознавать, но и по-настоящему нести ответственность за бабушку и подругу Году.
Нравственный выбор совершает бывший студент Левиного папы Фима, ставший полицаем, пособником фашистов, почувствовавший неограниченную власть над людьми, участвующий в массовых расправах (в том числе над учителем и собственной матерью): «Показалось, что он оттолкнул ее излишне грубо, она даже ударилась ногой о камень, охнула, упала, скрутилась у дороги проволочным бесформенным комком. Застонала, разворачиваясь в человека. Он знал, что должны появиться жалость и сострадание, но они не появились. Что-то менялось в нем, уходило навсегда» [Сешко, 2023, с. 146]. Процесс утраты человеком человеческого облика, описанный в произведении, генетически роднит образ Фимы с образом Андрея Гуськова из повести В. Распутина «Живи и помни». При этом О. Сешко уходит дальше, низвергая предателя в инфернальный мир хтонических чудовищ. Наконец, нравственный выбор совершает сама Катя, которой приходится принять непростое решение: оставить волшебную куклу Акку себе и продолжить помогать персонажам своих сновидений или вернуть ее настоящему хозяину – мальчику Максимке, который страдает тяжелым расстройством сна и без куклы может вообще погибнуть. Кстати, именно в речи малыша Акка фигурирует как «снуть вошлебная» - нечто волшебное, что помогает уснуть, но что это такое, мальчик пока не может объяснить ни маме, ни лечащему доктору.
Третий пространственно-временной план – авторская интерпретация фольклорно-мифологического сюжета колыбельной песни про волчка. Волчок живет в Максимкиных страхах, а правильнее - на границе миров, в точке пересечения жизни и смерти, вечно голодный и злой, готовый «ухватить за бочок и тащить во лесок». Пространство Максимкиных кошмаров сродни фольклорным представлениям о потустороннем, навьем, мире. В определенном смысле Максимка тоже совершает нравственный выбор, выходя навстречу своему страху, встречаясь лицом к лицу с волчком и одерживая моральную победу.
Способ художественного миромоделирования, избранный О. Сешко в повести «Снуть вошлебная», демонстрирует отступление от собственно романтического принципа «двоемирия», когда идеальный вымышленный мир противопоставляется уродливому реальному. При том что некоторые элементы, указывающие на рецепцию традиций немецкого романтизма, в повести очевидно присутствуют. Скорее мы наблюдаем постмодернистский принцип создания альтернативных реальностей, наделенных собственными пространственно-временными характеристиками и системой персонажей.
Можем предположить, что для определения специфики пространственновременной организации повести О. Сешко «Снуть вошлебная» есть основания использовать термин «гетеротопия», предложенный М. Фуко [Фуко, 2006]. В гуманитаристики XXI в. появляются исследования, посвященные рецепции принципов гетеротопии художественным произведением [Dehaene, De Cauter, 2008; Filimon, 2013; Гетеротопии: миры, границы, повествование, 2015]. В частности, в анализируемой повести О. Сешко реализованы следующие принципы гетеротопии.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
Принцип помещения в одном реальном месте нескольких пространств [Фуко, 2006, с. 199]: Катя Соколова живет с родителями в служебной квартире отца, физически не покидая этого пространства, она каждую ночь ментально перемещается в белорусский город на Западной Двине, в иное временное измерение; Максимка, находясь в реальном пространстве дома или больницы, перемещается в инфернальное пространство своих кошмаров.
Открытость и замкнутость пространств, их изолированность и проницаемость [Фуко, 2006, с. 201] заключаются в том, что при видимой семантической и морфологической самодостаточности пространственно-временные повествовательные планы в повести О. Сешко не являются непроницаемыми: их взаимодействие обеспечено скрепляющими сквозными образами и мотивами, наличием героев-медиаторов, единством контрапункта и коммуникативной задачи повести.
Создание иллюзорного пространства, которое изобличает все реальное пространство [Фуко, 2006, с. 202]: обнаружив в своих сновидениях сверхспособность управлять солнечными лучиками, Катя постепенно понимает, что количество лучиков и их магическая сила во сне напрямую связаны с ее поведением в реальности; таким образом, психологическая эволюция девочки-подростка происходит не только благодаря фантастическому погружению в жестокую правду войны, но и благодаря осознанному отношению к своим действиям и поступкам.
Наконец, в повести «Снуть вошлебная» можно проследить элементы кризисной гетеротопии, когда возникновение некоего пространственно-временного континуума обусловлено пограничной, кризисной ситуацией. Сюда можно отнести и топос витебского гетто, и укрытие, в котором Лева и Года спасаются от катастрофической действительности, наполненной страхом, голодом, одиночеством и смертью, и скит Левы-старика, в котором тот прячется от мира людей, поскольку так и не научился после войны жить в нем, и даже состояние психологического «анабиоза», в которое погружается мама Миши Сидорова в моменты сильнейшего эмоционального выгорания.
Своеобразными «скрепами», объединяющими несколько пространственновременных планов в единую ткань повествования, выступают различные способы мифологической цитации, которыми виртуозно пользуется автор. Как правило, обращение писателя к мифопоэтическим структурам зависит от ряда причин. Можно утверждать (как автор статьи делала это и ранее), что в литературе рубежа ХХ–XXI вв. «миф, имеющий обобщающий характер, оказался универсальным средством преодоления “локального” историзма и позволил перейти к художественным обобщениям другого уровня: выявить “вечные” модели личных и общественных взаимоотношений, сущностные законы окружающего мира. Мифологизм в творчестве русских и белорусских писателей обозначенного периода носит глубоко осознанный, рефлективный характер, что обусловливает философскую, интеллектуальную направленность их творчества» [Кри-кливец, 2020, с. 16]. Так, все произведение в целом пронизано пантеистическими представлениями. О. Сешко наделяет несобственно-прямой речью явления природы: море, деревья, скалы, ветер, – практически персонифицируя их: «А еще местный лес умел завораживать и рассказывать сказки, умел завести разговор первым и не отпускать от себя долго, оставаясь при этом ненавязчивым. Лес Кате нравился цепкостью, открытой душевностью и симпатичностью. С ним казалось легко» [Сешко, 2022, с. 24]. Образы некоторых героев повести (старик-Лева, отец Миши Сидорова) демонстрируют литературную рефлексию образов «естественных людей», созданных в литературе ХХ в. (в творчестве А. Куприна, В. Астафьева и др.). Природа для этих героев становится домом, в отшельничестве они чувствуют себя естественнее, чем в социуме, понимают язык зверей и птиц, видят то, что недоступно иному человеческому глазу. Олицетворяет О. Сешко и неживые предметы, о чем ярко свидетельствует описание «душевного состояния» старого заброшенного дома, в который приходят Катя Соколова и Аня Кочкина: «В углу большой комнаты висели на стене, стояли на полочке фотографии близких дому людей, отпечатанных судьбами своими в его истории. Половицы поскрипывали их голосами осторожно и недоверчиво, словно сообщая при каждом шаге: ‟Были. Мы были. Жили-были. Мы”. Дом хранил в себе бережно каждый вздох, каждое слово, каждый взгляд. И пока хранил – жил» [Сешко, 2022, с. 139].
В связи с названными особенностями повести вполне естественными выглядят и отсылки к тотемным верованиям, которые встречаются в произведении. Таковым выступает мифологизированный образ оленя – сакрального животного для народностей Русского Севера. Впервые встречаясь в повести, олень свидетельствует о появлении в реалистическом повествовании нового, мифологического уровня, об использовании автором элементов вторичной художественной условности: «С противоположного берега, с того места, где сосны расступались на пару метров, пропуская к воде узкий звенящий ручеек, а потом снова соединялись в густое зеленое однообразие, смотрел на девочку красавец-олень, с рогами, достающими, казалось, почти до облаков. Постоял, повертел головой, рискуя сбить с небес солнце, повернулся и ушел в лес медленно и гордо» [Сешко, 2022, с. 5]. Присутствует в «Снути вошлебной» и описание деревянной фигуры рыбы-флюгера, вырезанной умелыми руками Мишиного папы. Флюгер отличается способностью улавливать эмоциональные «поветрия» своих хозяев, не случайно некоторые герои пытаются разговаривать с ней вслух. Согласно мифологическому словарю Е.М. Мелетинского, с образом рыбы традиционно «ассоциируется в мифологии мотив смерти – воскрешения» [Мифологический словарь, 1991, с. 663]. По мнению А.Н. Афанасьева, ловля мифологической рыбы является метафорой обновления [Афанасьев, 1995]. В повести О. Сешко умение понимать язык рыбы-флюгера приобретают герои, прошедшие своеобразную инициацию, совершившие путь духовного обновления.
Одним из способов мифологической рецепции является в анализируемом произведении описание традиционных для саамов артефактов. В частности, постаревший Лева поклоняется сейду – ритуальному сооружению из камней, делится с духом своими переживаниями, просит у него совета. Да и сама Акка – кукла-
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
оберег – отражает мифологические представления северного народа. Апелляция к историко-культурным артефактам, характерным для определенной народности, с одной стороны, помогает автору погрузить читателя в национальный колорит описываемой местности, с другой – позволяет расширить границы художественной модели мира и создать трехуровневое пространство, коррелирующее со структурой вселенной, представленной во многих мифологических традициях.
На достижение этой цели работают и образы-мифологемы, широко представленные в повести. Так, в образе Стрекозы наблюдает Катя Соколова трагедию оккупированного фашистами города. В эзотерике стрекоза ассоциируется с трансформацией, выступает символом перемен и новых начинаний. Без сомнения, глубокие нравственные перемены происходят и с главной героиней повести «Снуть вошлебная». Катя не только открывает для себя страшные страницы истории, девочка постигает ценность человеческой жизни, учится сочувствию и взаимопомощи, осознает ответственность за принятое решение. Кроме того, в ряде языческих верований стрекоза воплощает идею возрождения, спасения души. Духовное перерождение подростка, только начинающего поиск себя в мире, осуществляется посредством интериоризации исторической памяти, понимания глубинной взаимосвязи настоящего и прошлого.
В преданиях многих народов упомянут мост в языческий рай, пройти по которому могут только души добрых, мужественных и справедливых людей. По мнению ученых, такой мост был и у славян [Семенова, 2007]. Теперь он называется Млечным Путем. Души праведников проходят по нему в вирий, а души грешников падают с него во мрак и холод нижнего мира. Преодолеть мост нередко помогал проводник – собака. В повести О. Сешко старый пес Шершень чаще сопровождает дворника Якова. Однако именно Шершень в самую страшную ночь помогает Леве не погибнуть, согревая мальчика, как бы отдавая ему чудом сохранившиеся жизненные силы: «Злой, беспощадный ветер, возомнивший себя хозяином мира. Кто ответит ему? Разве только большой грустный рыжий пес, обнимающий мальчика мягкими лапами, слизывающий снег с лица маленького человека розовым горячим языком. Согревающий его дыханием. В силах ли он противостоять ветру?» [Сешко, 2023, с. 171]. Здесь мы наблюдаем индивидуально-авторскую интерпретацию мифологемы: собака не провожает человека в загробный мир, а возвращает его к жизни.
Многообразие и многогранность народных верований позволяют по-разному трактовать образ паука. Согласно некоторым представлениям, пауки (точнее, па-учихи) участвуют в сотворении вселенной, в других славянских регионах паук – символ горя и смерти. В повести «Снуть вошлебная» «пауками» называет Лева немецко-фашистских оккупантов со свастикой на форме. Детское мифологическое восприятие проникает глубже, в самую суть явлений. Действительно, «пауки»-нацисты создали свою вселенную, в которой все чужое, «второсортное», подлежало уничтожению. И в то же время сознание ребенка напрямую связывает образ «пауков»-захватчиков с их биологическим, природным прототипом: паук коварен, он подстерегает добычу и впрыскивает в нее яд, от которого жертва долго мучается и умирает. Такова идеология фашизма, не только несущая физическую смерть, но и отравляющая своим ядом психологию адептов.
Одним из ключевых образов-символов с мифологическим значением становится в повести О. Сешко образ яблока. Яблоко обещает принести Лева голодной Годе в гетто, хотя самому мальчику это обещание кажется неправдоподобным. Его путь из гетто в город за яблоком сродни пути-испытанию, пути-инициации фольклорных персонажей за неким артефактом (в том числе за молодильными яблоками), который повышает сакральный статус героя. Любовь, радость, знание, мудрость – такова семантика яблока в народной обрядовости. Лева не успевает отдать яблоко Годе, не успевает поделиться с подругой своей детской любовью и радостью… Зато Лев отдает яблоко Кате, связывая этим жестом два поколения, прошлое и настоящее, передавая знания и мудрость, добытые кровью, как своеобразный кредит доверия, которое нынешним молодым людям только предстоит оправдать: «Мы тогда победили, выстояли в гетто, в лагерях, на фронте, в тылу, в голоде и холоде, в болезнях, в огне, в крови, в горе, потому что вы сегодня такие – настоящие. Вы тогда нас спасли, мы чувствовали вас, верили, что вы есть. Именно такие» [Сешко, 2023, с. 217–218].
Автор повести «Снуть вошлебная» активно интерпретирует фольклорномифологические сюжеты. Как мы уже отмечали, сюжетообразующее значение для всего произведения приобретает творческое переосмысление народной колыбельной песни про волчка. В культурологии существует несколько толкований сюжета этой песни. Наиболее распространенное интерпретирует содержание колыбельной как сюжет о приходе зверя. При этом край, на который нельзя ложиться, – обозначение границы двух миров, своего и чужого. Герой повести, маленький мальчик Максимка и впрямь существует на границе двух миров: в реальности, где есть мама, отчим, доктора, и в навьем мире своих сновидений-кошмаров. В народной демонологии волки (оборотни) представлялись существами типа леших, наделенными сверхъестественными способностями. Считалось, что лешие крадут детей, которые вырастают в лесу и становятся нелюдями. Таким образом, песня про волчка приобретает следующую семантику: не будешь вести себя, как люди, – окажешься по ту сторону границы (края), станешь нелюдем. Следовательно, пространственно-временной план повести, раскрывающий историю волчка, в определенном смысле становится объединяющим, связывающим в единое целое прошлое и настоящее посредством контаминации с чужим, потусторонним, инфернальным миром. Обитать в этом мире обречен Волчок-Фима, утративший человеческий облик, продавший душу своим хозяевам-нацистам и навечно застрявший на границе жизни и смерти. Не случайно маленький Максимка интуитивно чувствует, что бороться с волчком ему помогает танк, возле которого в городском парке он спокойно, без кошмаров засыпает у мамы на руках. Чтобы не перейти за край, не стать нелюдем – необходимо быть сильнее своих слабостей, своих страхов. Мальчику это удается, он побеждает волчка внутри себя. Эта победа
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
не только сулит благополучие Максимке и его семье, но и свидетельствует об историческом оптимизме автора повести.
Сюжет о поглощении и выхаркивании героя рыбой или змеем принято рассматривать как вариант (или часть сюжета) мифа о змееборчестве. Как правило, данное испытание для героя также может рассматриваться как версия инициации, в результате которой герой повышает свой сакральный статус. Традиционный для фольклора сюжет практически не встречается в современной литературе, однако в повести О. Сешко он приобретает новое звучание. Обессилевший Лева в очередной раз пробрался в оккупированный город в поисках обещанного Годе яблока. У мальчика начинаются голодные галлюцинации, он поскальзывается и падает в овраг с мутной холодной жижей. При этом Леве представляется, что он летит в пасть к хищной рыбе, которая пожирает его: «Толку цепляться за кусты, за кочки, за гнилую траву, обломки деревьев, за стеклянные края сотворенного им светлого пятнышка в непроглядной тьме? Все бесполезно. Рыбья пасть приближается, он бьет ее ногами, вкладывая в удары всю силу, бьет еще и еще, откалывает куски от клыков, разбивает ей губы в белую вареную кашу. Темнота, холод и горькая воздушная смесь пепла, снега и паучьего яда накрывает с головой, топит, вгоняет в небытие. Рыба проглотила его, поглотила, употребив на завтрак, и теперь он растворится в ее брюхе, а значит, Года никогда не дождется яблока. Неужели жизнь кончается именно так? Будем знать» [Сешко, 2023, с. 127]. Выбраться из оврага мальчику помогает покойная бабушка, за ее мягкие родные руки цепляется Лева в бреду. Подобный сюжетный ход объединяет миф о змееборчестве и мотив путешествия в загробный мир, из которого герою удалось вернуться (бабушка Леву к себе не пускает). В данном случае вторичная мифологическая условность служит средством аллегорического описания драматических событий военного прошлого.
Мифологическая семантика повести указывает на то, что Лева неоднократно совершает переходы между миром живых и миром мертвых. При этом О. Сеш-ко использует традиционные для обрядов перехода обозначения границ двух миров. В произведении есть образ понтонного моста через реку, который соединяет гетто с другой частью города: «С мертвой части города к живой развернут понтонный мост – не широкий, но достаточно крепкий. По нему проезжают машины, даже танки, проходят строй за строем нескончаемые вражеские орды, но русским, белорусам, евреям, всем жителям города ступать на него не дозволено. Мост предназначен для господ. Люди второго сорта – пожалуйте вплавь. Лева, мама, бабушка, все их друзья и знакомые теперь такого сорта. Видимо, их портит душа, для первого сорта – душа ненужная субстанция» [Сешко, 2022, с. 207]. Совершенно очевидна смысловая отсылка к мифологическому Калинову мосту через реку Смородину, который соединяет мир живых и мир мертвых. Дорогу через этот мост много раз преодолевает Лева.
Кроме того, сама река, через которую перекинут мост, символизирует названную границу. Семантически образ реки в повести взаимосвязан с мифоло- гическими Смородиной, Летой, Стиксом. Мифологический подтекст усугубляется описанием гибели множества людей во время трагической переправы через реку (контекстуально ощущается единство этой сцены со сценами переправы в романе В. Астафьева «Прокляты и убиты»). Таким образом, функциональный диапазон способов мифологической цитации расширяет возможности создания исторических и социальных аллегорий в современной прозе о Великой Отечественной войне.
Пересечение границы между мирами и проницаемость пространственновременных континуумов при их кажущейся дистанцированности обусловлены наличием героев-медиаторов. Собственно, медиатором является Катя, перемещающаяся в сновидениях из современной реальности в военное прошлое. В названных пространственно-временных планах героиня воплощена в разных ипостасях: девочки-семиклассницы и фантастического существа с крылышками, способного управлять солнечными лучиками и в некоторой степени влиять на ход событий.
Обилие мифологической условности, связанной с образом Левы, с одной стороны, дает основание считать его медиатором, с другой – необходимо понимать, что в данном случае вторичная условность объясняется мифологическим мировосприятием, свойственным детскому сознанию, и стремлением автора показать, что во время войны пограничное положение человека (между жизнью и смертью) ощущается особенно остро. При этом из прошлого в настоящее Лева переходит естественным путем (детство – взросление – старость), тем самым связывая оба повествовательных плана.
В повести «Снуть вошлебная» представлен любопытный второстепенный персонаж – доктор Израиль Иосифович, работающий в военном госпитале на оккупированной территории и лечащий Максимку и маму Миши Сидорова в специализированной клинике заполярного городка. Его переход из одного пространственновременного плана в другой также выглядит естественным и в силу возрастных характеристик (Максимкиной маме он представляется древним стариком и поначалу не вызывает доверия), и в силу личностных качеств: доктор воплощает собой душевную проницательность и доброту, которых не хватает в любые времена: «Обе руки мальчика поместились в огромной мягкой ладони Израиля Иосифовича. В ней тоже жила улыбка, согревающая добротой» [Сешко, 2023, с. 68].
Если Катя имеет возможность наблюдать за началом войны в белорусском городе и даже принимать участие в разворачивающихся действиях, то Максимка, проваливаясь в своих ночных кошмарах в инфернальный мир, соприкасается скорее с психологическим итогом индивидуальной трагедии, утраты морального облика и человеческих качеств, что пугает малыша на иррациональном уровне.
Переход через «границу» для каждого из перечисленных героев – это безусловная инициация, в повести мы наблюдаем духовную эволюцию каждого из них, можно утверждать, что Катя переживает так называемое экзистенциальное пробуждение. Очевидно, что Фима пересекает черту единожды, навсегда приговоренный остаться хтоническим чудовищем, скатываясь к корням мирового древа.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
Помимо героев-медиаторов, в повести О. Сешко «Снуть вошлебная» есть герои, которых можно охарактеризовать как медиумов. Так, маленькую девочку с крылышками из всех обитателей захваченного города видит только дворник Яков, он общается со Стрекозой, объясняет ей взаимосвязь между ее и своим мирами. Вообще, функции Якова в повести разнообразны. Этот образ вызывает множество литературных ассоциаций. Дворник Яков, очищающий город от грязи даже в военные дни, напоминает Маленького Принца Экзюпери, приводящего в порядок свою планету. В отдельных сценах он – некий дух, хозяин города (как «хозяин острова» в «Прощании с Матерой» В. Распутина). И в то же время Яков – страдающий человек, переживающий за судьбу Родины, болезненно остро ощущающий свою невсесильность.
Чертами медиума наделена бабушка Левы, еще в довоенные времена имевшая обыкновение разговаривать с покойным мужем. Это было так естественно, что Лева живо представлял себе дедушку рядом с бабушкой. Выше мы упомянули о том, как бабушка оберегает внука после смерти. Да и сам Лева после пережитого приобретает способности ясновидения, которые мешают ему жить среди людей и вынуждают на долгие годы стать отшельником. Подчеркнем, что герои-медиаторы и герои-медиумы – органичная составляющая авторской модели мира, ориентированной на пространственно-временную многослойность и смысловую многозначность, на вариативность читательской трактовки.
Выводы . Таким образом, в повести О. Сешко «Снуть вошлебная» представлена многоуровневая художественная модель мира. Наличие нескольких альтернативных реальностей, не характерное для традиционной военной прозы, позволяет современному автору осмыслить трагические события периода Великой Отечественной войны с нескольких ракурсов (в дискурсе настоящего и прошлого времени), избежать публицистичности и нарочитого дидактизма. Повесть отличается социальным оптимизмом, так как писатель не оставляет сомнений в том, что молодое поколение способно достойно принять кредит доверия от дедов и прадедов и остаться верным своей исторической и генетической памяти. Можно утверждать, что повесть О. Сешко воплощает перспективный вектор развития современной прозы о Великой Отечественной войне, поскольку она содержит продуктивные способы социальных и культурных импликаций и формирует действенные когнитивные подходы к художественному постижению исторической правды.
Список литературы Принцип «двоемирия» и герои-медиаторы в современной прозе о Великой Отечественной войне (на примере повести О.В. Сешко «Снуть вошлебная»)
- Аристов Д.В. «Окопная правда» - вчера и сегодня // Филологический класс. 2010. №23. С. 30-36.
- Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: в 3 т. М.: Современный писатель, 1995. 3 т.
- Гетеротопии: миры, границы, повествование: сб. науч. ст. / ред. И. Видугири-те, П. Лавринец, Г. Михайлова. Вильнюс: Изд-во Вильнюсского ун-та, 2015. 416 с.
- Ковтун Н.В. Тема памяти в современной прозе о Великой Отечественной войне // Культура и текст. 2020. № 4. С. 6-24. DOI: 10.37386/2305-40772020-4-6-24
- Крикливец Е.В. Мифопоэтика повестей В. Шукшина «Калина красная» и А. Кудравца «Раданща» // Сибирский филологический форум. 2020. № 2. С. 16-27.DOI: 10.25146/2587-7844-2020-10-2-39
- Маркова Т.Н. Стилевые трансформации военной прозы конца XX века II Запечатленная победа: ключевые образы, концепты, идеологемы. СПб., 2016. С. 173-176.
- Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1991. 736 с.
- Семенова М.В. Мы - славяне!: Популярная энциклопедия. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. 560 с.
- Сешко О.В. Снуть вошлебная: повесть. Гомель: Барк, 2022. Кн. 1. 228 с.
- Сешко О.В. Снуть вошлебная: повесть. Гомель: Барк, 2023. Кн. 2. 228 с.
- Скаковская Л.Н. Военная проза начала XXI века: темы, идеи, образы II Вест-никТверскогогосударственногоуниверситета. 2015. № 1. С. 107-113.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления, интервью. М.: Праксис, 2006. Ч. 3. 320 с.
- Dehaene М. De Cauter L., ed. Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society. London; New York: Routledge, 2008. 358 p.
- Filimon E.C. Heterotopia in Angela Carter's Fiction: Worlds in Collision. Hamburg: Anchor Academic Publishing, 2013. 329 p.