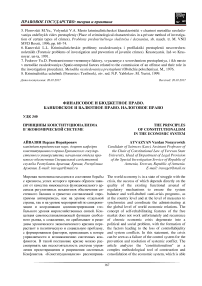Принципы конституционализма в экономической системе
Автор: Айвазян Вардан Норайрович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Финансовое и бюджетное право. Банковское и валютное право. Налоговое право
Статья в выпуске: 1 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
Мировая экономика находится в состоянии борьбы с кризисом, успех которого прямым образом зависит от качества имеющегося функционального арсенала регулятивных механизмов обеспечения системного баланса и грамотно составленной «программы антикризиса», как на уровне отдельной страны, так и на уровне мероприятий по синхронизации и координации администрирования глобального уровня мирохозяйственных связей. Концепция самовосстанавливающей функции свободного рынка, к сожалению, не срабатывает и рецидивы хронического экономического кризиса перерастают в политическую и социальную проблему, с формированием факторов, приводящих к потере управляемости и возникновению системных конфликтов. В такой постановке кризис можно рассматривать как несостоятельность системы управления предотвращения и разрешения системных Конфликтов. «Конституционализм» рассматривается как комплексный методологический инструментарий конструирования и построения экономической системы, позволяющей предотвратить и решить системные конфликты.
Экономическая система, конституционализм, экономический кризис, правовое государство, верховенство права, общественный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/142232722
IDR: 142232722 | УДК: 340
Текст научной статьи Принципы конституционализма в экономической системе
Перманентно повторяющиеся сотрясения экономической системы государств и мировой экономики в целом, последний период новейшей истории приобретают циклический характер, при этом авторегулятивная состоятельность восстановления не справляется с задачей регуляции отклонений, и дисбаланс экономики переходит в состояние системной неравновесности (или потери равновесия), что уже с точки зрения «экономического права» квалифицируется уже как «кризис». Мировая экономика находится в состоянии борьбы с кризисом, успех которого прямым образом зависит от качества имеющегося функционального арсенала регулятивных механизмов обеспечения системного баланса и грамотно составленной «программы антикризиса», как на уровне отдельной страны, так и на уровне мероприятий по синхронизации и координации администрирования глобального уровня мирохозяйственных связей.
Концепция самовосстанавливающей функций свободного рынка, к сожалению, не срабатывает, и рецидивы хронического экономического кризиса перерастают в политическую и социальную проблему, с формированием факторов, приводящих к потере управляемости и возникновению системных конфликтов. В такой постановке кризис можно рассматривать как несостоятельность системы управления предотвращения и разрешения системных Конфликтов (выделено мной – В.А.).
В этой связи самым ключевым вопросом регулирования и предотвращения выступает вопрос: «Имеем ли мы право рассчитывать на самовосстановление?», и, если нет, тогда «Имеем ли мы состоятельность понимания природы возникновения кризиса, причины и факторы, приводящие дисбалансу функционирования экономики, состоятельность описания генезиса конфликтов экономической системы - как следствие нарушения экономических закономерностей?». Ответы на эти вопросы и определяют сам формат правовой сущности регулирования и управления экономической системы в рамках политэкономической модели государства, собственно говоря, формируя правообразование и праворегулирование экономической системы, как правового объекта, т.е. объекта правового закрепления, после которого только можно говорить и номинировать правосубъектность экономики в принципе.
Вопросы «В чем заключается функциональное предназначение экономики? как она должна быть сконструирована и построена? как надо проводить его правовое закрепление и по какому механизму правообразования, в итоге обеспечивающего статус правового общества? и т.д.» являются основополагающими в самом процессе государствообразования, обозначая конституционную «субъектность» и вытекающую из этого ответственность экономической системы перед государством.
Безусловно, самый упрощенный подход – это принятие презумпции, что «экономическая система имеет имманентную природу самоформирования, саморегуляции, самоорганизации» и соответственно, с точки зрения правого закрепления центральным принципом пра-вообразования становится – «не вмешательство государства в экономические процессы», оставляя «допустимость и свободу самопровозглашенного права в рамках позитивной договоренности». С точки зрения конституционализма (выделено мной - В.А.)., данный подход конституируется в качестве основного принципа и правового статуса экономической системы, при этом «Конституция экономики» больше переходит в плоскость «неписанной консти- туции» с основным акцентом правовой авторегуляции на базе поведенческой рефлексии и правоприменительной системы, на основе логики «прецедента».
Конституционализм, как агрегационный комплекс построения правовой системы, с применением полноценного подхода (подразумевающий «Писаную конституцию») правового закрепления экономики, предполагает целостное формализованное описание самого предмета и механизма функционирования экономики, как подсистемы государства, в рамках объективных закономерностей, что в свою очередь является предметом правового закрепления, с которым должна справится Правоведение и оформить его как нормативную систему в лице законодательства уже в рамках Юриспруденции.
Необходимо отметить, что конституциональный принцип правового закрепления снимает проблему рассмотрения самой правовой сущности связки «Право – Экономика», которая четко обозначает правовую «ответственность» как самой экономики – выступить в однозначных и четких формализованных контурах в научном формате (как максимальный уровень разумности) и фиксируемой функциональностью своего предназначения в метрике полезности перед обществом, также как и определяет обязательность институтов правотворчества и правоустановления иметь состоятельность истинного правогенеза, исключая возможность самопроизвольного правоустановления и толкования уже зафиксированных конституционным образом ценностей и принципов, посредством конституционного конструктива власти (принцип разделения власти). При этом сама система права структурно подразделяется на Публичное и Частное Право, как два подпространства права, в котором экономическое право размещается сугубо подпространстве частного права, с принципом правового регулирования на основе равноправности субъектов экономических отношений, в особенности, когда одним из сторон выступает само государство.
Очевидно, что конституционализм (выделено мной – В.А.) в случае упрощенного подхода и конституционализм расширенного классического подхода не тождественны, хотя формально в техническом плане они обе имеют «текст конституции».
В этом плане, возникают много неоднозначных моментов уже на концептуальном уровне вариации определений, отражающих предметную область таких как, например «Экономическое право» и «Правовая экономика», «Конституционность Экономики» и «Экономический конституционализм», «Экономическая конституция» и «Конституционная экономика», «Конституционное гражданство» и т.п., в результате отсутствия однозначного теоретического базиса дефиниций Правоведения, дают повод и возможность разных интерпретаций и толкований содержания объектов экономики конституционного плана, формируя порой дуализм и взаимоисключающие по своему смыслу конфликты.
Конечно же, многие открытые вопросы и проблемы фундаментальной теории экономики и правоведения, не дают на сегодняшний день универсальную модель правообразова-ния экономической конституции или конституцию экономики в рамках Правовой Системы с конституционно-правовым регулированием, однако это не означает, что допустимо «вольный» и непрофессиональный подход к конструированию, внедрению и операционному запуску правоприменения конституционной системы в рамках гражданского общества в правовом государстве.
Центральным вызовом перед мировым сообществом в последний период новейшей истории является беспрецедентный темп и динамика процессов глобальной интеграции, в результате которого взаимосвязанность и взаимозависимость всех процессов даже на самом локальном уровне, определяют безальтернативность автономного функционирования в самоза-мкнутом и автономном режиме.
При этом ключевой проблемой выступает вопрос обеспечения упорядоченности как самой глобальной интеграции, с правовым закреплением в рамках системы международного права, также, как и всех участников мирового сообщества, с правовым закреплением инсти-
тута суверенитета и национальной идентичности, с обязательным условием синхронизации и гармонизации национального и наднационального правового регулирования. В этом плане:
˗ критическим является то обстоятельство, что глобализация происходит не столь вследствие фундаментальных разработок механизмов интеграции, на основе глубокого теоретического исследования и методического арсенала их практического применения на прикладном уровне, сколь имеет место уже фактическое ее наличие, требующая незамедлительного реагирования и постфактум осмысления в экстренном режиме;
˗ это в свою очередь, определяет тенденцию "экспресс-реагирования" на ситуационном уровне с практическим приоритетом решения отдельных фрагментарных задач, с узким коридором аналитического и юридического сопровождения, нежели всеобъемлющего и всестороннего системного подхода, определяющий полноценную аналитику самой феноменологии глобализма, его правовой природы и механизма правового закрепления, также как и на его основе регламента юридического оформления, без которого праворегулирование и правоприменение не могут выступать в качестве систем с высоким уровнем управляемости.
В частности, в результате технического прогресса уже по факту действует, и мир живет в новой формации информационной интер-коммуникации, но при этом системы праворе-гулирования отсутствуют (имеющиеся ограничительные общеобязательные правила нельзя квалифицировать даже как зачаточный уровень системы киберправа).
Также любой фрагмент экономической деятельности, от уровня производства товаров и услуг до системы регулирования на макроэкономическом уровне уже зависят в той или иной мере внешнеэкономических отношений и являются прямой проекцией системы мирохозяйственных связей – но при этом международное экономическое право, как сформированная и функционально действующая система, опять таки с готовым механизмом правообразования и правоприменения – НЕТ (присутствуют лишь фрагментарно в лице МВФ, ВТО, Международных арбитражных судов и т.д. лишь на конвенциональном уровне без унифицированности правового регулирования международных экономических отношений и действуют больше на принципе билатеральной договоренности на доктринальном уровне).
Отсутствует также общепризнанная модель транснационального федерализма, на основе которого могла бы функционировать система международного права с действенной системой правоприменения, заменяя не совершенство текущего состояния международного права, основанная на резолюциях ООН (выступающие как инструменты юридического оформления, но не как правоустановление) консультативного характера, или опять таки билатерального договорного принципа правового регулирования, которая опять таки имеет больше статус юридического закрепления договоренности, нежели правового закрепления взаимоотношений всех участников мирового сообщества, в рамках объективной природы и правовой сущности без которого системная гармония и согласованность интересов не может быть достигнута (ибо любая замена правового содержания без обозначения правовой сущности самих объектов индицирующих процессы взаимодействия – не может быть заменена формальным юридическим оформлением без обозначения самой правовой пространственности, в котором она заключается, следовательно, может быть расторгнута в любой момент).
Таким образом, формируется системный конфликт, вследствие чего наступает «Кризис» нарушения системной связи «Правового принципа с юридическим актом», когда второе не вытекает из первого в силу его отсутствия. Безусловно, принцип верховенства права в такой постановке не возможен, и нарушается высший конституционный принцип правообразо-вания и правоустановления – определяющий статус «правового государства», при котором сама правовая система основывается и формируется на принципе «Силы права» (не допуская соответственно «Право Силы»).
В этой связи, критически важным и необходимым является фундаментальное осмысление (переосмысление) понимания сути (Правовой сущности) Конституционализма и выделение системообразующих (конституционных) принципов правообразования, при котором, только и возможно формирование самой Правовой Пространственности, где уже можно оперировать и выявлять правовую сущность всех объектов совокупного общественного процесса.
Именно это обстоятельство является особой свойственностью конституционализма, выступать в качестве института формирования правового пространства, си-стемообразования права в плане правообразования и правоустановления в дисциплинарном теле законодательства, как системы общеобязательных правил, определяющих нормативное поведение всех объектов совокупного общественного процесса, с особой метрикой «конституционности», устанавливающей «правовую качественность», адекватность и легитимность всех объектов, процессов и явлений в формате уже правовых объектов (выделено мной – В.А.).
Таким образом, становится возможным определять конституционность не только отдельных фрагментов действия общества, но и правовую целостность системной феноменологии «Общества» и «Государства» в едином контексте сущности права, на основе которого можно определить обязательства по обеспечению конституционных гарантий экономических и социальных и прав граждан,
При таком методологическом подходе, Системная целостность выступает как базовый принцип Конституционализма как на этапе Системообразования Права и правового закрепления государствообразования, так и функционального действия правового регулирования государства, с обеспечением единообразия правовой сущности всех составляющих подсистем и институтов государственности. При этом необходимо особо отметить, что сам «формуляр конституционности», как агрегационный инструмент правовой оценки и мониторинга, выводится на основе правовой сущности рассматриваемого объекта в процессе правообразования и правоустановления и имеет природу концептуальной дефиниции (формирующей предмет правового толка), тогда как применение этого формуляра в рамках операционного правового регулирования основывается на уже конкретном регламенте юридического толкования в рамках системы правоприменения.
Правоспособность оценки конституционности прямым образом зависит насколько полноценно и последовательно разработан вышеуказанный формуляр, как агрегат конституционного мониторинга, или вернее мониторинга конституционности объекта рассмотрения.
Этот принцип чрезвычайно важен на каждом отрезке правового закрепления того или иного процесса, системы взаимоотношений и системы взаимодействия, выступающих в качестве правового объекта, поскольку для правового закрепления последующим нормоустанов-лением априори требуется «формуляр правового закрепления», который соответствует базовым требованиям уже «формуляра конституционности». Т.е. сами процессы нормотворчества и законотворчества должны быть конституционными.
Иначе выражаясь, если законодательство не соответствует формуляру конституционности, то конституционность будет нарушена уже в процессе правоприменения и праворегу-ляции как неизбежное следствие с порождением Системного Конфликта. Эта Проблема особо проявляется в «переходных процессах», где требуется обеспечение синхронности структурных реформ в формате системной целостности правообразования, нарушение которого безальтернативно создает ситуацию «аморфной конституционности» или «конституционного дуализма», при котором как сам формуляр конституционности, так и орган конституционно-правового регулирования (Конституционный суд) не имеют место быть.
Декларация отмены правовой монополии государственной собственности на средства производства и принятия его законодательным органом переходного периода независимого государства – не означает, что этим актом установлены и внедрены институты частной собственности, свободы выбора и предпринимательства, социального страхования, механизмы функционирования свободного рынка и т.д.

Техническое переименование Госбанка на Центробанк, с принятием текста закона о Центробанке и банковской деятельности, не означало деинсталляцию социалистической модели плановой экономики и инсталляцию института стоимостного воспроизводства в условиях капитализма с соответствующим системообразованием денежного обращения и национальной валюты, как системного агрегата идентификации независимого государства и государственной безопасности.
В условиях «аморфной конституционности и неоднозначной (вернее многозначной) правовой сущности» долгое время в странах СНГ или даже на историческом примере становления стран Содружества присутствовал «правовой дуализм». И это объективный процесс (даже, наверное, неизбежный), также, как и объективным является безальтернативность оставаться в этом состоянии долго. До сих пор в законодательных актах стран СНГ присутствуют «циркуляры советского права»
При этом Системный Конфликт отсутствия правового толка, и его эмуляция техническим голосованием парламентом «утверждение текста закона», а не правовой сущности и институционального контента правообразования, который закон должен нести в себе, а законодательная власть иметь состоятельность полного правового осмысления, имеет место в том или ином уровне во всех странах «переходного периода».
Безусловно, конституционный формуляр как Системная целостность правового регулирования государства, прежде всего, относится и должен однозначно и полноценно раскрывать правовую сущность следующих « конституционных (выделено мной – В.А.) по определению и умолчанию» системообразующих объектов государствообразования: Политическая система: Экономическая система: Социально-образовательная-культурологическая система: Духовно – Этногенетическая система национальной идентичности
Очевидно, что каждый из этих элементов может и даже должен иметь свою «Конституцию по своему предмету», также как и невозможность их рассмотрения в автономном плане, вне системной целостности Общей Конституции, представляющей конструктив Человека, Нации, Общества и Государства в рамках единого правового Объекта, под названием Государство (Армянское, Российское, Украинское…) создавая субстанциальную ткань Правосубъектности уже в Системе Международного Права
При всей очевидности того, что на вопрос «Возможно ли, чтобы процесс построения конституциональной правовой системы реализовался без фундаментальной однозначной архитектуры правообразования?», должно следовать безусловное «Нет», тем не менее, теоретический потенциал правоведения не располагает сегодня методологическим инструментарием, позволяющим представить универсальный системотехнический стандарт практического проектирования систем права на принципах конституционализма, с оптимальной системой конституционно-правового регулирования.
В этой связи, даже уже в условиях действующих конституционно-правовых регулирований вопросы системной целостности и внутрисистемной конгломерации политэкономиче-ского конституционного базиса не только актуальны, но и остаются открытыми.
В частности, ключевым вопросом является: Что такое «Конституционность экономической системы государства»? каков диапазон его правового действия и механизма конституционно-правового регулирования? Также, как и в каком проявлении можно наблюдать и констатировать «неконституционность или нарушения конституционности» самой экономической системы или отдельных экономических явлений от макро до микроуровня?
Этот аспект несовершенства правоведения переводит проблему в техническую плоскость принятия государственных решений, которые затрагивают экономические и социальные права, гарантированные в Конституции. При этом, конечно же, ведущую роль играет выбор в качестве базовой методологии право образования – логическую площадку Позитивного Права. В этом случае, выявление правовой сущности и критериев конституционности сводят- ся к анализу взаимного влияния правовых и экономических факторов, в контексте проблем применения Конституции со структурой и функционированием экономики. В этом контексте формируются так называемые научно-практические дисциплины или направления на стыке экономики и конституционализма, которые эмулируют системную целостность конституционного правопроектирования решением проблем государственного регулирования экономики, исходя не только из экономической целесообразности, но и из реалий уже по факту существующей конституционной структуры государства.
Показательным примером этого является конституционная экономика как научное направление, изучающее принципы оптимального сочетания экономической целесообразности с достигнутым уровнем конституционного развития, отраженным в нормах конституционного права, регламентирующих экономическую и политическую деятельность в государстве [1, с. 3].
Центральной фундаментальной задачей является выявление правовой сущности экономики, как таковой, на основе чего должно определяться правопостроение иерархии вложенности правовых объектов, реализующих смысловую выводимость правовой сущности из корневого сущностного контента, коим выступает Человек, как первичный конституционный объект правового закрепления.
В такой постановке Конституционализм выступает как механизм конституирования нормообразования в рамках этой иерархии с обеспечением правовой сходимости от любого корневого (выделено мной – В.А.). В частности, такой постановке, уже в контексте выявления правовой сущности Человека, как следствие института Права на Жизнь, в рамках которого обозначается конституционное функциональное предназначение Экономики, как системы жизнеобеспечения Человека в формате общественного бытия. В этом плане, конституционная природа и сущность такой ключевой категории как «счастье человека» исходит из философии права и только посредством онтологического инструментария сущности права можно вывести правовой конструктив, на основе которого можно начать построение конституционно-экономического обеспечения «права на счастье» как ныне живущих, так и будущих поколений» в рамках правового государства [2, с. 92–106]. Конечно же, инструментальная состоятельность перевода понятия «счастье» на язык конкретных правовых категорий, позволяющих контролировать применение государством своей же конституции, обуславливает формирование «формуляра конституционности». Но при этом, необходимо отдельно отметить, что сам предмет правового закрепления имеет экономическую природу и механику описания «счастья» и «экономическая модель счастья» должно как первичное условие быть в наличии. Это созвучно с тем, как Кант в своей работе «Критика чистого разума» ставит вопрос о том, что понятие «счастье» должно найти юридическое определение с тем, чтобы «право на счастье» было рассмотрено как quid juris (вопрос о праве), а не с позиций «всеобщей снисходительности» [3, с. 92]. Конечно же это подразумевает, что правовое закрепление благополучия и благополучного существования без обозначения экономической системы невозможно. Текстовая декларация права мирного и благополучного существования всех людей под эгидой единой конституции, без инсталляции всех сопряженных институтов экономики благополучия (свобода предпринимательства, разделения труда, богатства и добавленной стоимости, свободы функционирования рынка, частной собственности, конкуренции и т.д.) не может рассматриваться как реальное обеспечение конституционных прав.
Также необходимо отметить, что принцип конструирования конституционной системы права, как максимально стабильной правовой субстанции, как это определяет Кант, состоит в том, что история будущего созидается сегодня, и не на базе достигнутого опыта плачевных или положительных результатов предшествующей деятельности, а на базе некоего конституционного идеала (который может восприниматься аксиоматично, a priori , ввиду его бесспорности) [3, с. 319]. Это можно считать, как основной постулат «конституционного формуля-
ра», исключающего правовую волатильность конституциональной системы в целом, с обеспечением незыблемости базовых ценностей и принципов бытия общества и правового государства, также как обязательность глубокой продуманности самой модели государственности (статус кантовской бесспорности) и его базиса, таким образом, чтобы динамика изменений относилась только темпам социально-экономического развития, но не структурных изменений основ государственности, собственно говоря, и обозначающих саму конституционность и конституционализм.
Конечно, как правило во многих конституциях в преамбуле и в теле основного текста обозначается Практическое конституционно-правовое определение «счастье» (или «благополучие и процветание) в том или ином формате выступают в качестве философского основания конституционной экономики [4].
При этом на примере Брунея и Бутана «счастье своих граждан» обозначается главной конституционно-правовой ценностью государства, с попытками теоретической формализации и имплементации экономического механизма реализации конституционного права.
Безусловно, проектирование и функционирование Системы правового регулирования экономической системы государства без вышеуказанного «Конституционного формуляра» закономерно не сможет обеспечить конституционную неизменность основных принципов экономического правообразования, и будет обречен на эволюционный процесс совершенствования законодательной основы экономического права методом пробы и ошибок (которые постоянно нужно исправлять). В качестве практического примера можно привести исторический опыт становления и функционирования налоговой системы в рамках «Финансовой Конституции», отдельным компонентом которого является налоговый кодекс и весь эволюционный процесс перманентного нормотворчества и принятия законов в налоговой сфере, в результате чего налоговая система находится в постоянном стрессе (хотя все инициативы изначально направлены на улучшения).
При этом необходимо отметить, что налоговый кодекс не может рассматриваться как технический нормативный акт, он выступает как конституционный объект, правовая сущность которого выводится из иерархии Основной Закон\Конституция - Экономическая Конституция - Финансовая Конституция - Налоговый Кодекс.
Рассмотрение Налогового Кодекса и его законодательное закрепление без выявления правовой сущности таких объектов экономической предметной области, как налог, налогообложение, бюджет и всех сопряженных функционалов экономической системы, в режиме ситуационного и конъюнктурного наполнения бюджета - безусловно не имеет конституционной метрики, белее того не может решать задачи на системном уровне.
«Конституционная экономика» не ставит перед собой такой фундаментальной задачи и представляет собой межотраслевые знания о том, в какой мере конституционные нормы и принципы влияют на принятие политическими органами государства важнейших экономических решений, облекаемых в форму нормативных актов.
Конечно же, предметом анализа таких решений могут служить законы о бюджете, законы о налогах и сборах, о способах преодоления экономического кризиса и т. д., при этом Конституционную экономику также можно рассматривать как инициативного агрегата междисциплинарного характера, направленного на раскрытия регулятивного потенциала наиболее обобщенных и социально значимых конституционных положений в сфере экономики.
Не случайно, в качестве приоритетной Задачи конституционной экономики в России определяется - «Философско-правовое осмысление категории «правовое государство» с учетом выполняемых публичной властью функций в экономической сфере, изменение содержания и способов государственного регулирования экономических отношений в условиях экономической (финансовой) глобализации» [5]. Также, как и осмысление положения Преамбу- лы Конституции РФ об «осознании многонациональным народом России себя частью мирового сообщества» в экономическом и юридическом смысле.
В теоретическом плане выделяется сформулированный Бьюкененом базовый тезис конституционной экономики о том, что отсутствие интеллектуального превосходства государства над своими гражданами в вопросах экономической жизни страны должен заинтересовать институты гражданского общества в отношении использования Конституции при защите экономических и социальных прав граждан, а также активизировать гражданскую позицию самого населения [6].
Однако во многом все обусловлено наличием у государства социальной функции, на основе которого определяется социальная детерминация и регламентация финансовой деятельности, вследствие основного правового регулирования общественных отношений. В связи с этим праворегулирование распределения и использования централизованных денежных фондов государства и муниципальных образований базируется на нормы Конституции, из которых вытекает необходимость надлежащего финансового обеспечения соответствующих полномочий публичной власти. При этом, механика такого конституционно-правового регулирования, как правило осуществляется Конституционными Судами и в зависимости от экономической модели государственного обустройства, определяется пакет полномочий и регламент действий органов публичной власти при принятии нормативных правовых актов и, прежде всего бюджета, устанавливающих механизм и режим финансирования публичноправовых обязательств, вытекающих из необходимости реализации общегосударственных гарантий прав и свобод, закрепленных непосредственно Конституцией.
Текущая практика конституционной экономики в основном акцентирует следующие задачи и проблемные блоки:
-
˗ определение того, что есть «общее благо» как экономическая цель современного государства. Сущность и назначение государственного сектора экономики и государственных финансов. Какие цели и задачи должны реализовываться государством, опираясь на данный сектор экономики;
-
˗ выявление системы конституционных принципов, используемых для правового регулирования экономических отношений, а также тех представлений о них, которые сформировались в правоприменительной практике в виде правовых позиций высших судов;
-
˗ изучение проблем имущественной ответственности государства перед предпринимателями за принимаемые управленческие решения (ответственность регистрирующих органов, органов, регулирующих финансовые рынки, и т.д.);
-
˗ пределы возмещения государством потерь собственников при принудительном отчуждении имущества для государственных нужд и конституционно-правовая оценка того, какие из них действительно являются государственными;
-
˗ построение теоретической (идеальной) конструкционно-правовой модели взаимоотношений публичной власти и бизнеса. Решение при этом таких практических вопросов, как экономическое обоснование налогов, нормативное содержание принципа добросовестности в сфере гражданского права и в сфере налогообложения. Применение методов конституционной экономики для определения границ допустимой (законной) налоговой оптимизации».
Как видно, из вышеуказанного, основной акцент ставится на переосмысление, осознание, построение недостающих элементов экономического и правового регулирования, фактура которого больше имеет характер доработки и комплекса мероприятий, нежели формат методологического арсенала на основе фундаментальной и системной научной проработанности правовой сущности конституционно-правового регулирования.
Так, например, задача «Построения теоретической (идеальной) конструкционноправовой модели взаимоотношений публичной власти и бизнеса» может продолжаться и находиться в состоянии вечной проработки, поскольку теоретический универсум, как пред-
мет конституционно-правового закрепления, не является ключевой задачей, на основе которого можно было бы вывести конституционный формуляр экономических и социальных прав граждан, также как и механизм обеспечения конституционных гарантий, по своей правовой сути обозначающие институт обязательства государства перед своими гражданами.
При этом без обеспечения конструктива правосообразия всех составляющих и фаз правообразования, с обозначением функциональной роли экономической системы как объекта права, в котором проецируется совокупный синтез Права на Жизнь – Права на Счастье – Права на Мирное Сосуществование – Права на Развитие – Права на Свободу – Права на Волеизъявление, в качестве правового объекта, носителя высшей власти общества и Учредителя Государства, и синтеза правового конструктива экономического благосостояния, обеспечение конституционных прав граждан не реализуемо.
Сам синтез конструктива экономического благосостояния и его правовое закрепление, без конструирования экономической системы с функциональным предназначением организации производства благ и услуг в рамках ресурсообеспеченности государства, с целью обеспечения права доступа к ресурсам потребления в соответствии принципов соотношения "доля участия в совокупном общественном процессе (ВВП)\объем доступа к ресурсам потребления", определяемой политической системой (подсистемой государства) без инсталляции и функционального действия институтов: собственности, свободы выбора сферы предпринимательства и контрактации, системы воспроизводства, системы денежного обращения, системы аккумуляции богатства, системы социального обеспечения и других системообразующих элементов не возможно осуществить полноценно системной агрегации конституционализма.
При этом экономические объекты и благосостояние имеют конституционную метрику Праведности, как системы правового закрепления основных ценностей, определяющих национальную самоидентификацию народа и общества и легитимности, на основе которого возможно проводить конституционный мониторинг действия Права обеспечивающий:
-
˗ конституционный принцип – «Экономика не имеет право быть не Праведным»;
-
˗ конституционализм, как принцип системообразования права, не допускающую, чтобы государственность и его составляющие подсистемы могли бы быть не праведными;
-
˗ конституционный принцип Праведности Богатства;
-
˗ функциональная целостность государства, как единого целого и его системы управления.
Безусловно, на техническом уровне требуется широчайший комплекс практических инструментов, позволяющих обеспечивать агрегацию как макроэкономических параметров функционирования экономики на системном уровне, так и на уровне микроэкономического плана, обеспечивающих конституционную состоятельность генерации требуемого уровня экономического благосостояния и ресурсного обеспечения каждого члена общества.
Даная проблематика должна и будет рассмотрена уже в плоскости предметной направленности соответствующей экономической сферы и его правового закрепления в рамках конституционно-правового регулирования в дальнейших наших публикациях.
Список литературы Принципы конституционализма в экономической системе
- Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И. Конституционная экономика: проблемы теории и практики / Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. № 2. С. 3.
- EDN: QLJIIH
- Краткая биография и Нобелевская лекция / Лауреаты Нобелевской премии по экономике: автобиографии, лекции, комментарии. Т. 2. 1983-1996. СПб.: Наука, 2009. С. 92-106.
- Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994.
- Философия права в начале XXI столетия через призму конституционализма и конституционной экономики / Сост. П.Д. Баренбойм, А.В. Захаров.; предисл. В.В. Миронов, Ю.Н. Солонин; изд-е Московско-Петербургского философского клуба. М.: Летний сад, 2010.
- Очерки конституционной экономики. 23 октября 2009 года / под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Юстицинформ, 2009.
- Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. М.: Таурус Альфа, 1997.