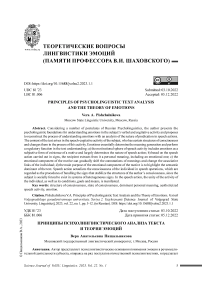Принципы психолингвистического анализа текста и теория эмоций
Автор: Пищальникова Вера Анатольевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Теоретические вопросы лингвистики эмоций (памяти профессора В.И. Шаховского)
Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Автор представляет психолингвистические основания понимания эмоции в речемыслительной деятельности субъекта, опираясь на ряд постулатов отечественной психолингвистики, и предлагает реконструировать процесс понимания эмоции на основе анализа характера предикации в речевых действиях. Содержание текста возникает в речемыслительной деятельности субъекта, который обладает определенными структурами сознания и изменяет их в процессе этой деятельности. Эмоции детерминируют смыслопорождение, выполняя регулирующую функцию в понимании текста: а) мотивационная сфера речевой деятельности включает эмоции как субъективную форму существования мотива и в значительной степени обусловливает характер речевого действия; б) опираясь на речевое действие, реализованное в знаках, реципиент извлекает из него личностный смысл, в том числе эмоциональный; в) эмоциональный компонент мотива может градуально смещать коннотации смыслов и изменять ассоциативные связи индивида; г) основное назначение эмоциональной составляющей мотива - выделение смысловой доминанты текста. Речевое действие осуществляет сознание индивида в речевых операциях - процедурах оперирования со знаками, стабилизирующих структуры сознания автора, поскольку субъект социально вынужден функционировать в системах гетерогенных знаков. В речевом действии проявляется единство деятельности индивида, а также ее условий, целей и средств.
Структура сознания, состояние сознания, доминантный личностный смысл, эстетизированная речевая деятельность, эмоция
Короткий адрес: https://sciup.org/149142310
IDR: 149142310 | УДК: 81’23 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.1.1
Текст научной статьи Принципы психолингвистического анализа текста и теория эмоций
DOI:
Поток современных разноаспектных исследований, авторы которых пытаются постичь существо феномена, называемого художественным содержанием (смыслом), в настоящее время представляет существенно несходные концепции, обнаруживая, однако, единство методологического подхода, отражающее то, что «современное знание, все более и более унифицирующее общую картину мира по одноплоскостной схеме дихотомий (типа “выражение – содержание”, “природа – культура”, “человек – окружающая среда”, “наука – философия”) снова и снова воспроизводит типично научное заблуждение» [Мамардашвили, Пятигорский, 1997, с. 114].
Противопоставляя форму и содержание текста, говоря о репрезентации содержания языковыми единицами, исследователь решительно искажает сам процесс художественного мышления и ограничивает формы его познания.
Теория речевой деятельности, как представляется, позволяет избежать этого искажения при исследовании знаковых систем разного рода, поскольку из ее постулатов следует, что любая знаковая система (в том числе текст) – это определенная проекция со-знания , и понять ее означает извлечь содержание из собственного со-знания.
В этом смысле в нашей позиции могут быть акцентированы несколько важных положений и теоретических концептов.
Результаты и обсуждение
Понимание как проявление со-знания
Знание всегда осуществляется в определенной знаковой системе, и потому в познавательной деятельности субъекта оно по существу задано как механизм извлечения знания из конкретной знаковой системы, то есть как понимание. Культурное знание, воплощенное в данной знаковой системе, характер и уровень его присвоенности индивидом образуют определенное состояние со-знания , которое является основой понимания / непонимания конкретной знаковой системы: от некоторого ее знания субъект переходит к пониманию [Мамардашвили, Пятигорский, 1997].
Осуществление текста в той или иной (тех или иных) знаковой системе (знаковых системах) зависит от мотивации деятельности индивида и структур сознания (= знаково оформленного содержания), иначе – «готовых» структур знания, которыми он располагает и которые реализованы в конкретной системе знаков, потому любой текст уже есть некоторое знание. При этом понимание текста « не может быть порождено никаким лингвистическим устройством прежде всего потому, что сознание появляется в тексте не в силу каких-то закономерностей языка, то есть изнутри текста, но исключительно в силу какой-то закономерности самого сознания» [Мамардашвили, Пятигорский, 1997, c. 40–41];
« сознание невозможно понять посредством лингвистического исследования текста » [Мамардашвили, Пятигорский, 1997, c. 40]; «сознание – это то, что мы понимаем» [Мамардашвили, Пятигорский, 1997, с. 52]; «само по себе произведение никогда не может быть ответственно за те мысли, которые могут появиться в результате его» понимания [Выготский, 1987, с. 41–42].
Поэтому «содержание текста» возникает в речемыслительной деятельности субъекта, обладающего определенными структурами сознания (знанием) и способного образовывать состояния сознания, изменяя эти структуры в процессе такой деятельности, то есть, по сути, в процессе его понимания, которое «возникает актом чтения этого текста, который... отсылает к самому себе» [Мамардашвили, Пятигорский, 1997, с. 77]. При этом опора на языковой знак не предполагает оперирования им как компонентом собственно языковой системы; предмет оперирования здесь – «взаимоотносящиеся» структуры сознания, порождающие понимание текста.
Человек – принципиально знаковая живая система, социально вынужденная бытий-ствовать в системах гетерогенных знаков и оперировать ими в процессе познания. Однако в силу генетической дискретности любого знака индивид предполагает фиксацию в себе определенного момента понимания как специфической вехи, указывающей на некоторую познанность, но еще не завершенность познания объекта в конкретном мыслительном процессе. Вот почему знак и «останавливает» сознание, и включает человека в его процесс (Л.С. Выготский), но осуществляется это операционально: люди пользуются знаками без осознания правил пользованиями ими; «условие извлечения информации из сознания вытеснено действием» [Мамардашвили, Пятигорский, 1997, с. 96] знаковых систем. Знак может быть знаком чужого («готового») знания, и тогда он является элементом операционального режима нашей ментальной работы, но знание психологически реально только в форме индивидуальных структур сознания, для возникновения которых необходимо «перенесение наблюдающего субъекта в ситуацию возможного порождения этого знания » (курсив наш. – В. П. ) [Мамардашвили,
Пятигорский, 1997, с. 97], и только тогда знак будет знаком понимания , а не чужого знания.
В этом случае актуализируется вопрос о зависимости понимания речевого произведения (в частности, художественного текста), как и любого другого объекта познания, от эмоциональной составляющей мотива (эстетической) речевой деятельности.
Высказанные положения вполне применимы к исследованию эмоций, порождаемых в ходе интерпретации текста, в том числе художественного. Возможно исследование эмоций через обращение к их «семиотичности», через понимание того, что они «консервируются в языковых знаках и прежде всего в слове» [Шаховский, 2016, с. 87]. Такой подход предполагает «кодифицированность вербальной эмоции (точнее, вероятно, вербализованной. – В. П. ), закрепление достаточно определенного для данного языкового социума обобщенного эмотивного содержания за тем или иным языковым знаком, которое конкретизируется в различных коммуникативноэмоциональных ситуациях» [Шаховский, 2016, с. 87]. При этом процессуальность понимания остается вне рассмотрения исследователя, а потому и механизм понимания как «условия извлечения информации» оказывается неустановленным.
Интерпретация текста как один из процессов сознания – это, по сути, конкретизация его понимания субъектом, что не равно пониманию самого текста как знаковой системы. Любой концепт, который используется в интерпретации текста как знаковой системы, всегда фиксирует наше представление о процессе интерпретации, а не о свойствах объекта.
Кроме того, способы описания восприятия и процесса понимания текста, что вполне естественно, ограничиваются методами и процедурами исследования, образующими этот метод.
Отсюда стремление психолингвистики найти такие пути описания речевой деятельности, которые были бы максимально приближены к процессу осуществления сознания. Легко допустить корреляции интерпретативного процесса с предполагаемыми «ментальными репрезентациями» на уровне очередной модели понимания. Это чаще всего и проис- ходит в когнитивной лингвистике. Трудно и, как показывает опыт, практически невозможно доказать психологическую реальность таких корреляций.
Поэтому само функционирование объекта и взаимодействие в функционировании отдельных свойств объекта , абстрагированных от него в процессе познания, должны стать ключевыми моментами рефлексии исследователя, интерпретирующего объект, рефлексии его встречной речевой деятельности как понимания текста.
Эмоция разной модальности и степени интенсивности – обязательная составляющая мотива любой человеческой деятельности, и она определенным образом фиксируется в структуре текстов как знаковых систем, «останавливается в знаках», в которых осуществляется деятельность. В эстетической деятельности автора текста актуализируются доминанты эмоционально-мотивационной сферы его сознания, регулирующей смысло-образование. Они могут быть выявлены только при некоторой общности эмоционального состояния автора текста и реципиента, и эту общность нельзя определить иначе, чем обратившись к общности операциональных компонентов в механизмах понимания, которые обнаруживаются через способы пользования знаками, потому что «условие извлечения информации», по сути, осуществляется в речевом действии и вытеснено им. Поэтому исследователь должен сосредоточиться на уловлении «правил» извлечения информации из текста как системы знаков. Эти правила могут быть сформулированы только на основе характера предикации между компонентами любой смыслопорождающей деятельности, в том числе и речевой.
Характер предикации устанавливается реципиентом в анализе речевых действий как осуществляющихся состояниях его сознания на основе речевых операций как осуществившихся структур сознания автора. Речевое действие – смыслопорождающий «процесс, подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут» [Леонтьев, 1997, с. 103], операция же – автоматическое использование процедур оперирования со знаками, в которых этот смысл осуществляется: «...анализ деятельности состо- ит не в выделении из нее ее внутренних психических элементов для дальнейшего обособленного их изучения, а в том, чтобы ввести в психологию такие единицы анализа, которые несут в себе психическое отражение в его неотторжимости от порождающих его и им опосредуемых моментов человеческой деятельности» (курсив наш. – В. П.) [Леонтьев, 1997, с. 12–13]. При таком рассмотрении и выявляется единство деятельности субъекта, ее условий, цели и средств.
Доминантный личностный смысл и понимание эмоции
Понимание / непонимание смысла текста, как следует из уже сказанного выше, возникает из взаимодействия (а) эмоционального состояния реципиента, (б) «уловленных» условий и способов смысловой предикации, в сильной мере (в) детерминированных культурной и семиотической компетентностью индивида. Поэтому исследование понимания должно опираться на анализ речевых действий и речевых операций – по сути, на исследование отношений между смысловыми компонентами, создающимися в процессе пользования знаками различных систем, при этом знаки указывают не на конкретное содержание, а прежде всего на характер операции с ними. Именно операции со знаками позволяют предполагать смыслы, стоящие за речевыми действиями и операциями, то есть понимать: «слабость большинства традиционных (и структуралистских) исследований поэтики как раз в том, что они видят системность в самом тексте, а не в процессах его порождения или восприятия» [Леонтьев, 1975, с. 205], тогда как необходимо установить «специфику протекания эстетической реакции реципиента» [Леонтьев, 1975, с. 205]. Когда исследователи говорят о степени мотивированности языковой формы авторским смыслом, это означает, что речь идет об адекватном цели деятельности (или неадекватном) осуществлении мотива в операциональных процедурах с языковыми знаками, в которых репрезентируется смысловая предикация.
Особенности смысловой предикации проявляются не только в процедурах использования языковых знаков в процессе смыслопо- рождения, но и в частотности их актуализации. Для интерпретации единства этого процесса используется термин «смысловая доминанта». Его содержание можно определить, обратившись к учению А.А. Ухтомского о доминанте. Под физиологической доминантой он понимал «господствующую направленность рефлекторного поведения субъекта в ближайшей его среде», которая «направляет в данный момент времени все поведение организма на решение одной, наиболее важной задачи», селекционируя раздражители, необходимые для этого [Ухтомский, 1950, с. 319]. По тому же принципу строится решение (эстетической) речемыслительной задачи, что и позволяет говорить о смысловой доминанте речевой деятельности (текста). (Подробно о смысловой доминанте как рабочем принципе деятельности нервной системы см.: [Пищальникова, 2021].) Доминантный смысл как реализованная мотивированность речевой деятельности осуществляется в конкретных сходных и различных речевых действиях, образующих функциональное «пространство» смысла. Опираясь на анализ этих действий, реципиент воссоздает сходное условие образования смысла, то есть понимает. Поэтому интерпретация текста – это единство двух процессов: осмысления условий создания авторских смыслов и осмысления характера операций, производимых при этом, что в целом дает реципиенту возможность построения структур сознания, в большей или меньшей степени соотносимых с авторскими (знаменитое «проникновение за значение» А.Н. Леонтьева). Вот почему языковой знак – всего лишь оператор смысла, возникающего в процессе понимания речевой деятельности и реализующегося по правилам данной знаковой системы.
Эмоции, будучи некоторым эмпатическим состоянием сознания, во многом определяют процесс смыслопорождения. В силу общности условий существования и системной организации человека эмоциональные смыслы реализуются в определенных структурах знания, понимание которых опирается на ассоциативные связи смыслов, вступающих в предикативные отношения, и, вследствие этого, на слово как существенно нестабильное смысловое образование. В наших работах и в работах других исследователей неоднократно подчеркивалось: экспериментальные данные свидетельствуют о том, что начало семантических изменений в слове связано с градуальными изменениями эмоциональной составляющей коннотативного компонента значения [Панарина, 2015; Пищальникова, 2003; 2019; 2021; Пищальникова и др., 2019; Хлопо-ва, 2019]. Это обнаруживается в различных ассоциативных связях смыслов, которые носители лингвокультуры создают в процессе оперирования знаками языка при интерпретации реалий действительности. Без эмоционально-содержательных ассоциативных связей, свидетельствующих об определенном состоянии сознания, невозможно «создание единства чувственного образа», о котором прозорливо писал А.А. Потебня [1990, с. 43] и который становится опорой интерпретативного процесса (= процесса понимания знаковой системы) реципиента. Такие связи могут быть результативно исследованы в ходе анализа речевых действий как структурно-содержательных компонентов речевой деятельности.
Если считать сознание продолжением психических процессов, то эмоциональное содержание текста можно рассматривать «как систему раздражителей, сознательно и преднамеренно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию» [Выготский, 1987, с. 27]; и она «вызывается с принудительной необходимостью организацией поэтического материала» (курсив наш. – В. П .) [Выготский, 1996, с. 177].
Однако современная нейрофизиология принципиально настаивает на том, что нейрофизиологическая основа существенно сходных психических явлений может различаться. Исследователь, анализируя структуру раздражителей, может реконструировать структуру реакции, но сходная реакция возникает и на базе иной структуры раздражителей. Кроме того, нет и не может быть корреляций между определенным смыслом, в том числе эмоциональным, и знаком, который операционально используется индивидом для порождения этого смысла, поскольку знак (слово) способен указывать на практически неопределенную континуальную зону смысла, отдельные части которой связаны ассоциативно и, следовательно, субъективно. Это последнее по- ложение важно, поскольку субъективная ассоциативность в сильной степени зависит от характера эмоционального состояния индивида и его содержательной динамики.
Неопределенность выбора того или иного знака индивидом естественно усиливается в силу специфичности личности. Мотивация, реализованная в процессе порождения смыслов, может актуализироваться как эмпатическое состояние сознания реципиента, и возникает оно потому, что реципиент использует в процессе интерпретации текста его знаки как операторы смыслопорождения, пытаясь образовать те или иные смысловые отношения между ними, и процесс этот всегда обусловлен и смысловыми структурами (организацией знания) реципиента. Вот почему велика объяснительная сила концепта «личностный смысл», который подчеркивает не субъективность, но субъектность интерпретации, осуществляющейся в условиях восприятия конкретного речевого произведения. Присвоение эстетической эмоции невозможно без эмпа-тийного состояния сознания, при котором эмоциональное «понимание» существенно задает путь рациональному (А.Н. Леонтьев), хотя разделение таких типов понимания условно и используется нами лишь для того, чтобы подчеркнуть определенную детерминированность понимания эмоциональным состоянием сознания. Эта смыслонаправляющая функция эмоции отчетливо проявляется в понимании, акцентируя значимость конкретных составляющих познавательной деятельности, потому что эмоции – это, по В.К. Вилюнасу, единственная психологически реальная форма существования потребностей / мотивов.
Интерпретация как условно более «высокий» уровень понимания предполагает возможность рефлексировать над тем, какие отношения знаков текста играют для реципиента доминирующую роль в смыслопорождении.
Тогда возникает первая серьезная методологическая задача – исследовательская параметризация свойств эмоций, которые, по мнению психологов, определяют как интегративную и регулирующую функции в целом (в любой деятельности), так и понимание и интерпретацию текстовых систем знаков, в частности. Это тем более важно, что опора на какие-либо свойства внешних объектов, хотя бы и субъективно воспринимаемые, невозможна, поскольку эмоции – проявления внутреннего психологического состояния индивида, не содержащие информации о внешних объектах, их объективной обусловленности другими. Вместе с тем поведение индивида детерминировано, с одной стороны, нейрофизиологической организацией, с другой – социальными нормами, поэтому и эмоции, направляющие это поведение, могут быть в разной степени контролируемыми и, следовательно, устойчиво связываться с определенными социально одобряемыми / неодобряе-мыми типами поведения, в том числе речевого, позволяя говорить о некоем «социальном» эмоциональном опыте. Поэтому понимание эмоциональных смыслов возможно через построение аналогических структур сознания.
То, что вербализуется, может быть соотнесено с определенной структурой сознания , но аналогическая структура может быть создана и с использованием иных знаков: понимание осуществляется с опорой на весь субъективный опыт. Поэтому некие «объективные» границы предмета познания условны и определяются знаниями индивида.
Сознание индивида непрерывно, континуальны и его составляющие, имеющие реальное психическое бытие, – личностные смыслы. Языковой знак включается в конструирование сознания в качестве составляющей того или иного личностного смысла наряду с другими – визуальными, слуховыми и пр. В этом качестве он способен актуализировать понятийное, эмоциональное и ассоциативное содержание личностного смысла, понимание которого – это реконструкция путей построения личностного смысла автором.
Психологами и психолингвистами установлено, что в эмоциональной речи отмечается тенденция к использованию максимально свернутых схем речевой деятельности, понимание которых осуществляется в самом общем виде, но при этом направляет процесс понимания.
Регулирующая роль эмоции в понимании текста
Выделим несколько положений, которые теоретически аргументируют мысль о регу- лирующей роли эмоции в понимании текста. Во-первых, подчеркнем, что мотив речевой деятельности специфически реализуется в каждом ее компоненте, поскольку мотивирующая сфера сознания включает и эмоции как субъективную форму существования мотива, который отвечает не только за возникновение эмоции, но и за ее динамику в процессе деятельности. Никакая субъективно сложная ментальная задача, в том числе понимание (художественного) текста, не может быть решена без эмоциональной мотивации, существенно задающей путь познания. Эмоция может быть выделена в научном анализе и рассмотрена как специфический объект, но в реальной речевой деятельности, в силу нейрофизиологической организации человека, она практически неотделима от других механизмов и процедур с системами знаков, создающих актуальные смыслы. Поэтому, во-вторых, опираясь на речевое действие, осуществленное в знаках, реципиент извлекает из него личностный осуществляющийся смысл. Отсюда очевидно, что исследователь может только предполагать содержание авторского смысла и моделировать его структуру на основе генерализации индивидуальных (экспериментальных) данных. В-третьих, эмоциональный компонент мотива может градуально смещать коннотации смыслов и изменять ассоциативные связи индивида. Таким образом, главное назначение эмоциональной составляющей мотива – регуляция понимания текста, акцентирование его смысловой доминанты в разных смысловых предикативных связях, актуализирующих потенциально бесконечное число ассоциаций с эмоцией, осуществленной в этих связях.
Выводы
Наличие доминантной эмоции как проявления ведущей мотивации – существенный признак любой речевой деятельности, в том числе художественной. Регулируя процесс порождения смыслов, эмоциональная доминанта одновременно является их обязательным компонентом, и потому обнаружить ее характер можно с опорой на исследование речевых действий как составляющих вербальной художественной деятельно- сти, как осуществляющихся состояний сознания реципиента.
В этом случае понимание – это реконструкция путей построения личностного смысла автором, которые тоже осуществлены в речевых действиях и операциях. Языковой знак, «останавливая» в силу своей принципиальной дискретности и членораздельности определенные моменты понимания, выступает только указателем на некоторые структуры сознания автора, осуществившиеся в речевых действиях. Понимание же определяется способностью субъекта осуществить свой и только свой смысл на базе представленных автором операций со знаками – в речевом действии.
Список литературы Принципы психолингвистического анализа текста и теория эмоций
- Выготский Л. С., 1987. Психология искусства. М.: Педагогика. 344 с. Выготский Л. С., 1996. Мышление и речь. М.: Лабиринт. 352 с.
- Леонтьев А. А., 1997. Основы психолингвистики. М.: Смысл. 287 с.
- Леонтьев А. Н., 1975. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат. 303 с.
- Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М., 1997. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М.: Шк. «Яз. рус. культуры». 224 с.
- Панарина Н. С., 2015. Прецедентность как психолингвистическая категория // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. № 2 (26). С. 128133. DOI: http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu2. 2015.2.18
- Пищальникова В. А., 2003. Эмоциональная доминанта текста: переводческий аспект // Эмотивный код языка и его реализация. Волгоград: Перемена. С. 117-120.
- Пищальникова В. А., 2019. Интерпретация ассоциативных данных как проблема методологии психолингвистики // Russian Journal of Linguistics. Т. 23, № 3. С. 749-761.
- Пищальникова В. А., 2021. История и теория психолингвистики. М.: Р. Валент. 488 с.
- Пищальникова В. А., Карданова К. С., Панарина Н. С., Степыкин Н. И., Хлопова А. И., Шевченко С. Н., 2019. Ассоциативный эксперимент: теоретические и прикладные перспективы психолингвистики. М.: Р. Ва-лент. 200 с.
- Потебня А. А., 1990. Мысль и язык // Теоретическая поэтика. М.: Высш. шк. С. 22-54.
- Ухтомский А. А., 1950. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. Учение о доминанте. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ордена Ленина ун-та. 328 с.
- Хлопова А. И., 2019. Ассоциативный эксперимент как метод установления изменения коннотации базовой ценности // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. Т. 9, №> 1 (30). С. 80-85.
- Шаховский В. И., 2016. Диссонанс экологичности в коммуникативном круге: человек, язык, эмоции. Волгоград: Изд-во ИП Поликарпов И.Л. 504 с.