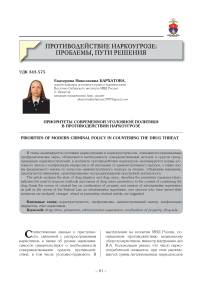Приоритеты современной уголовной политики в противодействии наркоугрозе
Автор: Бархатова Е.Н.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
Статья в выпуске: 1 (54), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется состояние наркоситуации и наркопреступности, описываются принимаемые профилактические меры, обозначается необходимость совершенствования методов и средств предупреждения наркопреступлений; в контексте противодействия наркоугрозе анализируются нормы уголовного закона о конфискации имущества и об уклонении от административного надзора, а также нормы федерального закона по вопросам административного надзора за лицами, отбывшими наказание; предлагаются изменения, ориентированные на предупреждение преступной деятельности.
Наркопреступность, профилактика, административный надзор, конфискация имущества, сбыт наркотиков
Короткий адрес: https://sciup.org/140303979
IDR: 140303979 | УДК: 343.575
Текст научной статьи Приоритеты современной уголовной политики в противодействии наркоугрозе
Статистические данные о преступности, связанной с распространением наркотиков, а также об уровне наркозависимости свидетельствуют о необходимости совершенствования средств противодействия, в том числе уголовно-правового. В выступлении на коллегии МВД России, посвященном противодействию незаконному обороту наркотиков, министр внутренних дел В.А. Колокольцев указал, что число наркопотребителей снижается, при этом увеличиваются суммы легализованных наркодоходов и объемы изъятых веществ1. Так, за девять месяцев 2023 г. зарегистрированы 147476 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Особую тревогу вызывает тот факт, что 78,3% от указанного количества зарегистрированных преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, и это число, в свою очередь, также превышает показатель аналогичного периода 2022 г. Среди незаконных действий с наркотиками лидирующую позицию занимает их сбыт (65,6% от общего количества зарегистрированных преступлений)2. Согласно данным Государственного антинаркотического комитета, отмечается негативная тенденция к увеличению числа наркопотребителей. Так, по итогам анализа за 2022 г. общее число пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, зарегистрированных наркологической службой Российской Федерации, составило 391,7 тыс. (+0,8% по сравнению с 2021 г.). Число пациентов, у которых впервые в жизни установлен диагноз «синдром зависимости», составило 14,0 тыс. (+0,5% по сравнению с 2021 г.)3.
В рамках профилактической деятельности, направленной, в первую очередь, на снижение спроса на наркотики и сокращение числа наркопотребителей, правоохранительными органами проводятся оперативно-профилактические мероприятия («Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник»), пропагандистские мероприятия и акции («Неделя правовых знаний», «Дети без наркотиков»), конкурсы («Спасем жизнь вместе»). Роскомнадзор проводит семинары и встречи с представителями средств массовой информации с целью недопущения освещения способов, методов изготовления наркотиков, мест приобретения наркотиков.
Укрепляется международное антинаркотиче-ское сотрудничество. С учетом положений Стратегии государственной антинаркотиче-ской политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 г. N 733, совершенствуется антинаркотическое законодательство.
Вместе с тем, учитывая сложившуюся ситуацию, принимаемыми мерами не удается существенно понизить уровень наркотизации населения и количество наркопреступлений. Представляется, что должен быть выработан комплексный подход к решению проблемы противодействия наркоугрозе, включающий меры правового, организационного плана, вопросы межведомственного и международного сотрудничества, надлежащий надзор и контроль. Об этом свидетельствуют и результаты научных исследований [4, с. 35].
Сохраняющийся значительный уровень наркотизации населения страны продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности России, что диктует необходимость дальнейшего развития комплексной и многоуровневой системы антинаркотической профилактики и оптимизации методов противодействия незаконному обороту наркотиков.
Уголовная политика в сфере противодействия наркоугрозе сегодня идет по пути ужесточения уголовно-правового воздействия на лиц, занимающихся наркобизнесом. Однако острой проблемой продолжает оставаться легализация (отмывание) преступных доходов наркобизнеса. Часто перемещение денег, полученных за наркотики продавцами, не удается отследить. Особенно это актуально ввиду распространенных на сегодняшний день расчетов за наркотики через криптовалюту. Так, за девять месяцев 2023 г. выявлены всего 759 фактов легализации преступных доходов (и это доходы от различных престу-
Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения

плений, а не только связанных с незаконным оборотом наркотиков)1.
Справедливо отмечал А.В. Чернов, что Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устранил препятствия для возбуждения уголовных дел по факту отмывания преступных доходов, приравняв криптовалюту к имуществу при рассмотрении вопроса о наличии признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ [7, с. 293]. Несмотря на предоставленную законом возможность придания соответствующего статуса криптовалюте для возбуждения уголовного дела и последующего его расследования, технически сложно отследить движение денег и доказать, что они вообще были переданы покупателем и получены продавцом. При этом общественная опасность незаконного оборота наркотиков обусловлена возможностью использования средств, полученных от реализации одной партии наркотика, для дальнейшего финансирования наркобизнеса. Поэтому лишение наркосбытчика его дохода должно стать первоочередной предупредительной мерой. Полагаем, что уголовно-правовыми средствами этого можно достичь с помощью института конфискации имущества. Справедливо отмечает Н.С. Железняк: «Действительно, если наркотики производят и реализуют для получения дохода, необходимо сформировать правовую систему, при которой любые ценности (деньги, имущество) лица, криминальная деятельность которого доказана в установленном законом порядке, изымались бы в доход государства, если указанное лицо не сможет доказать, что эти ценности приобретены им законным путем» [2, с. 50]. Такой же позиции придерживается С.В. Габеев, указывая, что исключение из системы наказаний конфискации имущества и образование правового вакуума в части изъятия преступно нажитых доходов и противодействия легализации доходов от незаконного оборота наркотиков явилось одним из главных недостатков Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [1, с. 4]. Сегодня законодателем предусмотрена возможность применения конфискации имущества к наркосбытчикам. Однако предмет конфискации не всегда может быть установлен (возвращаясь к случаям расчетов и последующей легализации через криптовалюту). Учитывая данный факт, считаем целесообразным внести изменения в статью 104.1 УК РФ, дополнив ее пунктом «е» в следующей редакции: «денег, ценностей и иного имущества, принадлежащего на законных основаниях лицу, совершившему незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в случае невозможности установления факта передачи денег, ценностей и иного имущества за указанный сбыт».
Такое изменение обязывает правоприменителя использовать ресурс конфискации имущества в любом случае за все наркопреступления. Полагаем, относительно нашего утверждения уместной будет критика, аргументированная фактическим отсутствием презумпции невиновности, недоказанностью корыстной цели сбыта, нарушением конституционных прав и свобод человека применением к нему конфискации фактически как дополнительного (если не основного) наказания. В этой связи необходимо подчеркнуть, что целью такой конфискации является не воздействие на наркосбытчика для его исправления или восстановления социальной справедливости, а обеспечение невозможности или затруднительности продолжения преступной деятельности, то есть в контексте нашего предложения конфискация имущества – сугубо мера обеспечительная, нежели карательная. Так, житель г. Петропавловска-Камчатского осужден за сбыт наркотических средств, поскольку передал наркотик третьему лицу в благодарность за предоставленную одежду1. Данному гражданину было назначено наказание, однако конфискация имущества применена не была ввиду того, что он не извлек материальной выгоды из сбыта. С точки зрения действующего законодательства (ст. 104.1 УК РФ) позиция суда неоспорима, но с точки зрения эффективности противодействия наркобизнесу не совсем верна. Полагаем, несмотря на то, что данный гражданин сбыл наркотик разово, это обстоятельство создало прецедент. Лицо, приобретающее наркотик для личного потребления, пришло к выводу о том, что можно использовать его и как средство расчета, а это уже другой уровень общественной опасности. Приведенное нами выше изменение позволило бы сократить (пусть и не в большом масштабе) число фактов сбыта, по крайней мере, со стороны «относительно добросовестных» потребителей.
Нельзя не заметить, что при существовании нормы в современной редакции конфискация имущества применяется к наркосбытчикам довольно редко. Так, за первое полугодие 2023 г. данная мера применена в отношении 2291 лица из 35119 (или 6,5%), осужденных по всем составам преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков или нарушением правил обращения с ними2. Представляется, что данный профилактический ресурс либо используется судами неэффективно, либо существуют препятствия к его эффективному использованию.
В случаях же, когда доказано, что наркосбытчик реализовал наркотики за оплату, но не удалось доказать источник происхождения денежных средств, или место их нахождения, или факт того, что они преобразованы в другое имущество, суды вынуждены не применять конфискацию имущества или отменять предыдущие решения, что с точки зрения предупредительной деятельности представляется недопустимым. Показателен в этом отношении приговор в отношении М., сбывшей наркотики и получившей прибыль в сумме около 200 тысяч рублей, в котором суд применил конфискацию имущества. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор в части применения конфискации имущества отменила, указав, что в описательно-мотивировочной части приговора не приведены мотивы, по которым суд пришел к выводу о том, что денежные средства, изъятые у М., получены в результате совершенных преступлений3.
Отметим еще одно обстоятельство, которое свидетельствует в пользу профилактической роли конфискации имущества. Так, В.В. Макарова указывает, что в отдельных регионах имела место практика конфискации имущества не на основании обвинительного приговора, а при вынесении постановлений (определений) о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям [5, с. 395]. Несмотря на то, что подобная практика является неправомерной в условиях современной редакции нормы о конфискации, внедрение ее представляется целесообразным (при условии внесения соответствующих изменений в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ).
Следующий аспект, на который следует обратить внимание в рамках антинаркотиче-ской уголовной политики – административный надзор за лицами, отбывшими наказание за наркопреступления, и уголовная ответственность за уклонение от такого надзора.
Во-первых, позволим себе не согласиться с положением Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об административ-
Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
ном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в части обязательного установления надзора в отношении наркосбытчиков только при условии признания его злостным нарушителем в период отбывания наказания или совершения им после освобождения при наличии непогашенной судимости административных правонарушений в определенных законом сферах. Полагаем, что административный надзор в отношении лиц, совершивших наркопреступления (как сбытчиков, так и других категорий), должен устанавливаться в обязательном порядке и должен быть направлен на разобщение связей данных лиц со сферой наркопреступности. В связи с изложенным считаемым необходимым внести изменения в статью 3 вышеуказанного Федерального закона, дополнив пункт 3 части 2 указанной статьи указанием на статьи 228-230, 231-233 УК РФ.
Кроме того, анализируя ст. 4 Федерального закона «Об административном надзоре», можно прийти к выводу о недостаточности предложенных в ней средств воздействия, если речь идет о поднадзорных, ранее совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Полагаем, ключевой профилактической составляющей должен стать разрыв прежних антисоциальных связей (т.е. связей с лицами, употребляющими наркотики либо реализующими их). Такого же мнения придерживаются А.В. Жильцов и Н.С. Железняк, указывающие, что в качестве мер воздействия на поднадзорных лиц, ранее совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, необходимо установить запрет контактов с лицами занимающимися преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков, запрет на употребление одурманивающих, наркотических, психоактивных веществ, запрет на владение инструментами, оборудованием и сырьем, с помощью которого и из которого можно приготовить наркотические средства и психотропные вещества [3, с. 139].
Возникает справедливый вопрос о том, каким образом будет осуществляться контроль за соблюдением запрета на соответствующие контакты. Представляется, что только с по- мощью технических средств аудио- и видеозаписи. Интересующиеся сведения можно почерпнуть также в опросах очевидцев, членов семьи, третьих лиц, однако подобные сведения не всегда просто получить и подтвердить их достоверность. Проводить постоянное «живое» наблюдение за поднадзорным невозможно ввиду объективных причин, связанных с необходимостью для сотрудников органов внутренних дел выполнять и иные служебные обязанности.
Статья 314.1 УК РФ, по нашему мнению, также нуждается в корректировке. Так, часть 2 данной статьи предусматривает привлечение к уголовной ответственности только в случае, если лицо неоднократно нарушило запрет, возложенный на него судом, и при этом два раза привлекалось к административной ответственности за перечисленные в диспозиции ст. 314.1 УК РФ виды правонарушений. При таких условиях привлечение лица к уголовной ответственности практически невозможно, однако запреты оно нарушает регулярно и продление срока административного надзора его совсем не тревожит. Согласимся с Э.Л. Сидоренко в том, что постановление по делу об административном правонарушении в случае его обжалования может вступить в силу только после вступления в силу решения по жалобе, в связи с чем лицо, фактически совершившее в течение установленного в статьях Особенной части УК РФ срока два и более административных правонарушения, «не успевает» быть дважды привлеченным к административной ответственности [6, с. 62].
Согласно данным судебной статистики, в 2022 г. за уклонение от административного надзора по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ осуждены 5151 лицо из 9903, соответственно, 4752 лица осуждены по ч. 1 указанной статьи. При этом, по данным Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России, ежегодно под административным надзором состоят более 100 тысяч лиц, на которых составляются в среднем 250 тысяч протоколов по фактам совершения административных правонару-шений1. Полагаем, что факт отсутствия административных правонарушений на фоне постоянного нарушения ограничений и запретов не свидетельствует о меньшей степени общественной опасности лица. Так, к примеру, в нарушение запрета лицо, состоящее под административным надзором, так как ранее совершило сбыт наркотических средств, посещает определенное место, где встречается с другими лицами, занимающимися преступной деятельностью. Результатом таких встреч является его участие в преступлении в качестве пособника, или подстрекателя, или даже исполнителя. Поэтому при решении вопроса о наличии или отсутствии признаков объективной стороны уклонения от административного надзора необходимо исходить не из количества совершаемых нарушений, а из возможных последствий в развитии преступной активности поднадзорного лица. В связи с изложенным полагаем, что из части 2 статьи 314.1 УК РФ следует исключить указание на сопряженность нарушения ограничений и запретов с совершением административных правонарушений.
Полагаем, что предложенные нами направления развития антинаркотического законодательства являются одними из приоритетных в современной уголовной политике, гармонично вписываются в общую концепцию ведущей роли предупреждения преступности и позволяют рассчитывать на повышение эффективности профилактической работы.
1 Данные Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России. URL: document/10091957 (дата обращения: 28.11.2023).
Список литературы Приоритеты современной уголовной политики в противодействии наркоугрозе
- Габеев, С.В. Усиление ответственности за незаконный оборот наркотиков как основная тенденция изменений законодательства о наркопреступлениях по УК РФ 1996 года / С. В. Габеев // Международный научно-исследовательский журнал. - 2022. - N 12. - С. 1-5. EDN: FXWVTQ
- Железняк, Н.С. О конфискации имущества как одном из ключевых средств противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков / Н.С. Железняк // Уголовное и оперативно-разыскное законодательство: проблемы межотраслевых связей и перспективы совершенствования. - Рязань, 2018. - С. 49-55.
- Жильцов, А.В. К вопросу об особенностях административного надзора за лицами, совершившими преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (административно-правовой и организационный аспекты) / А.В. Жильцов, Н.С. Железняк // Юристъ-Правоведъ. - 2018. - N 2. - С. 137-145. EDN: XTCXJR
- Криминологическая характеристика и краткосрочные тенденции наркоситуации в регионе ответственности организации договора о коллективной безопасности: аналитический обзор / П.В. Тепляшин, М.Г. Мелихов, Е.С. Пустовойт [и др.]. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023. - 48 с. EDN: HDFMBZ
- Макарова, В.В. Конфискация имущества: отдельные вопросы теории и практики / В.В. Макарова // Уголовно-исполнительное право. - 2022. - Т. 17. - N 3. - С. 393-400. EDN: HXSHXZ
- Сидоренко, Э.Л. Особенности квалификации преступлений преюдиционного характера / Э.Л. Сидоренко // Общество и право. - 2016. - N 1. - С. 60-66. EDN: VSDRAZ
- Чернов, А.В. Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия / А. В. Чернов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2023. - N 2. - С. 284-295. EDN: AIUKIK