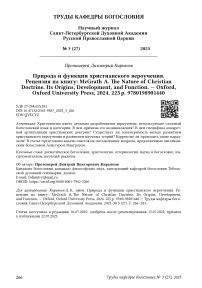Природа и функции христианского вероучения. Рецензия на книгу: McGrath A. The Nature of Christian Doctrine. Its Origins, Development, and Function. — Oxford, Oxford University Press, 2024. 225 p. 9780198901440
Автор: Протоиерей Димитрий Кирьянов
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Отзывы и размышления над книгами
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
Христианство имеет детально разработанное вероучение, использующее сложный богословский язык и категории. В чем причина его возникновения? В чем специфика конкретной артикуляции христианских доктрин? Существует ли соизмеримость между развитием христианского вероучения и развитием научных теорий? Корректно ли проводить такие параллели? В статье представлен анализ ответов на поставленные вопросы, предложенных англиканским богословом Алистером Макгратом.
Догматическое богословие, христология, сотериология, наука и богословие, инструментализм, научный реализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140312241
IDR: 140312241 | УДК: 27-284:655.552 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_266
Текст научной статьи Природа и функции христианского вероучения. Рецензия на книгу: McGrath A. The Nature of Christian Doctrine. Its Origins, Development, and Function. — Oxford, Oxford University Press, 2024. 225 p. 9780198901440
С первых шагов жизни в Церкви мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся присутствие в ней достаточно разработанного вероучения о Боге, Его отношении к миру и к человеку. Однако серьезное отношение к вере не может не ставить вопросов, почему вообще возникает христианское вероучение, почему оно принимает ту конкретную форму, в которой мы его исповедуем, и каковы функции христианского вероучения. Необходимость ответа на эти вопросы становится очевидной в контексте продолжающегося диалога между богословскими, гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами в рамках современной академической среды. В недавно представленной книге «Природа христианской доктрины. Ее истоки, развитие и функции» профессор кафедры науки и религии Оксфордского университета, известный апологет христианства Алистер Макграт представил свое видение того, каким может быть ответ на поставленные вопросы в начале XXI в.
Профессор Алистер Макграт получил образование в области химии в университете Оксфорда, затем докторскую степень в области биологии, и, уже будучи профессиональным ученым, степень доктора теологии. Его обращение к богословскому дискурсу было мотивировано «пониманием богатых интеллектуальных возможностей методологического диалога между естественными науками и христианским богословием»1. Ссылаясь на исследования М. Уайлза2, Макграт подчеркивает, что доктринальное развитие в первые века христианства имеет определенную соизмеримость с тем, что происходит на протяжении последних 300 лет в области естественных наук. При этом термин «доктринальное развитие» Макграт использует не в смысле появления «новых вероучительных истин», сколько в смысле прояснения того опыта богообщения, который был отражен в опыте апостолов и раннехристианской общины. Наконец, для Макграта немаловажным является акцент на том, что доктринальное развитие включает в себя сходные с развитием естественнонаучных теорий элементы, такие как «логика открытия» и «логика оправдания». В качестве примера из области естественных наук можно взять химика Ф. А. Кекуле, которому во сне приснился уроборос, что привело Кекуле к открытию кольцевой структуры молекулы бензола. Однако логика оправдания требовала объяснения того, почему бензол имеет кольцевую структуру и, разумеется, это потребовало проведения химических экспериментов и строгой научной аргументации. Ссылаясь на оксфордского богослова М. Уайлза, Макграт подчеркивает, что критерии и методы, которые использовали раннехристианские богословы, были направлены на то, чтобы найти лучшее объяснение тем свидетельствам, которые представлены в данных Откровения и опыте Церкви. Если многие протестантские богословы XIX — начала XX вв. были склонны довольно критически относиться к развитию раннехристианского богословия и считали его эллинизацией библейского Откровения, то Макграт полагает важным акцентировать внимание на том, что раннехристианскую богословскую традицию можно рассматривать как своего рода «лабораторию богословия», в которой разрабатываются теоретические рамки понимания вероучения, наиболее соответствующие тому Откровению Бога во Христе, которое получили апостолы и которое они передали ранней Церкви.
Первая глава книги «Об истоках христианской доктрины» начинается с вопроса, который может показаться странным: почему вообще возникает христианское вероучение? Когда мы размышляем о религии, то нам зачастую кажется само собой разумеющимся, что любая религия должна иметь разработанное вероучение. Однако, как отмечает А. Макграт, наличие разработанного вероучения не является существенным родовым свойством религии, но специфической характеристикой христианства, поскольку раннехристианские общины рассматривали богословие как «интегральную часть своей идентичности и своей миссии»3. Этот акцент на вероучении лежит в вопросе, который задает апостолам Иисус Христос: «За кого люди почитают Меня…? … А вы за кого почитаете Меня?» (Мф 16:13–15). Макграт справедливо подчеркивает, что если философские школы античности акцентировали внимание главным образом на исследовании текстов своих основателей, то христианство прежде всего сфокусировалось на почитании личности Иисуса Христа и артикуляции того пути богопознания, который Он Сам предложил. Стремление к этой артикуляции привело к появлению таких терминов как догма, доктрина и богословие, между которыми Макграт видит тонкое различие. Так, под догмой он понимает ядро христианского вероучения, например, догмат о Св. Троице и христологическое учение Халкидонского Собора. Доктрина имеет более широкое значение, охватывающее совокупность вероучительных истин, исповедуемых Церковью, в то время как термин богословие может использоваться для выражения мировоззрения конкретного богослова, каковое может совпадать, а может и не совпадать полностью с вероучением Церкви.
Возникновение христианского вероучения так, как об этом свидетельствуют Евангелия, говорит о чувстве удивления, изумления и чуда со стороны тех, кто слышал и видел действия Иисуса Христа. Макграт подчеркивает, что этот опыт не вмещался в традиционные рамки интерпретации и требовал возникновения новой парадигмы. Неудивительно, что не только Макграт, но и ряд других исследователей видят определенную соизмеримость между сдвигом парадигм в науке XVI–XVII вв. и сдвигом парадигм, связанным с возникновением христианского вероучения. И если на первый взгляд может показаться, что использование термина «сдвиг парадигм» предполагает накладывание современного образа мышления на раннехристианскую культурную среду, то Макграт подчеркивает, что идея «сдвига парадигм» имеет корни в античном наследии Аристотеля4. Этот сдвиг парадигм является важным для формирования раннего христианства, которое акцентировало внимание на исключительном значении Иисуса Христа и интерпретации в контексте этого священных текстов Израиля. Парадокс состоит в том, что хотя Иисус был исполнением Закона и пророков (Мф 5:17) и стоял в традиции Древнего Израиля, тем не менее Его образ не вмещался в старые рамки и требовал более глубокого осмысления. Таким образом, перед раннехристианскими авторами стояла задача раскрыть библейское свидетельство о Христе и объяснить его значение. Это свидетельство не укладывалось ни в традиционное еврейское понимание, ни в эллинистические представления о божестве. Макграт подчеркивает, что с самого начала раннехристианские богословы признавали необходимость принятия концептуальной карты, включавшей в себя непрерывность жизни и учения Христа с носителями Откровения Древнего Израиля, а также признание Христа как воплощения Божественного Откровения, как Искупителя и Того, Кому необходимо воздавать почитание и поклонение. Эти верования и практики были выражены в Новом Завете, и задача Церкви состояла в том, чтобы «переплести эти нити в когерентную концептуальную ткань...»5
Таким образом, христианские доктрина и богословие проистекают из необходимости учесть все аспекты новозаветного апостольского свидетельства о Христе. Обычно для такого когерентного описания сегодня используется термин «теория», который в современном понимании лишен того первоначального смысла, который это слово имело в греческом языке. Макграт подчеркивает, что античное понимание «теории» предполагает акт видения или постижения сложной реальности, который внутренне не отделим от причастности тому, кто постигается или созерцается в этом процессе. Так, например, концепция теории Аристотеля подчеркивает внутреннюю взаимосвязь рефлексии и практики, когерентность между тем, что мыслится, и тем, что делается. Теория в античном понимании предполагает не только когнитивную составляющую, но также аффективную и практическую. Этот ключевой элемент античного понимания теории как неразрывной связи рефлексии и практики являлся особо важным для раннехристианского богословия и, по справедливому замечанию Макграта, далеко не всегда акцентируется в современном богословском дискурсе. Это единство рефлексии и практики вполне очевидно в текстах Нового Завета, которые не только говорят о том, Кто есть Иисус Христос, но и подчеркивают необходимость литургического служения Ему, что предполагает не только когнитивный сдвиг парадигм, но и практический сдвиг в мышлении, выраженный греческим термином «метанойя».
Макграт справедливо отмечает, что перевод этого слова как «покаяние» не в полной мере передает всю глубину смысла. Метанойя предполагает не только покаяние, но прежде всего видение реальности новым способом (букв. «перемена ума»), как результат жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Эта перемена ума, или новое видение реальности превосходит ограниченную способность человеческого видения, связанную как с нашим тварным статусом, так и искажающим влиянием греха; перемена, которая происходит не вследствие действия исключительно рационального мышления, но, согласно блж. Августину, требует освящающего действия благодати. Таким образом, «метанойя» предполагает не только реконцептуализацию в интеллектуальном и эмоциональном плане индивидуального восприятия реальности, но возникновение нового образа мышления.
Макграт называет это возникновением «новой ноэтической ситуации», новой интерпретации мира, которая «консолидируется в коллективном мышлении христианской общины»6.
Начало этой новой интерпретации мира было положено Самим Иисусом Христом, чтобы подчеркнуть, с одной стороны, непрерывность с историей ветхозаветного Израиля, а с другой, специфичность Откровения в Иисусе Христе. Эта интерпретация была продолжена ранними отцами Церкви: «Сдвиг парадигм, который привел христианство в бытие, таким образом предполагает видение и истории Израиля, и священных текстов Израиля новым образом», который предполагал, что великие темы Нового Завета могут быть различимы в Ветхом7. Этот вид интерпретации был представлен уже во II в. в типологическом методе истолкования Писания свт. Мелитоном Сардийским.
Продолжая разговор о доктрине, Макграт подчеркивает, что суть доктрины никогда не находилась исключительно в ее пропозиционном содержании, но включала в себя и конкретную практику, поскольку, согласно С. Кокли, «систематическая теология без созерцательной и аскетической практики рискует стать пустой, ибо теология в собственном смысле всегда является имплицитно практической»8. Это в полной мере коррелирует с античными школами философии, которые предполагали не просто получение образования, а культивацию определенных практик, являющихся основой мудрости и благой жизни. В философии XX в. такой подход был представлен Людвигом Витгенштейном, полагавшим смысл философии в том, что она дает возможность жить в соответствии с определенным видением. Эта связь доктрины с практической жизнью нашла свое выражение в раннехристианском доктринальном развитии.
Вторая глава книги посвящена теоретизированию о личности Христа в раннем христианстве. Макграт справедливо подчеркивает, что основные строительные блоки понимания Иисуса Христа присутствовали в свидетельстве Нового Завета и апостольской традиции, а доктринальное развитие представляло собой «поиск наилучшего объяснения» этих свидетельств9. Этот поиск наилучшего объяснения привел к появлению различных точек зрения в раннем христианстве, однако Макграт не склонен их рассматривать как равнозначные, а скорее как различные попытки или исследовательские программы, нацеленные на то, чтобы представить когерентное понимание свидетельств Нового Завета и литургических практик, унаследованных от апостольского века. Согласно Макграту, ортодоксия возникает в процессе проверки апостольским преданием предложенных доктринальных рамок, который сходен с процессом развития научных теорий. Философ науки Имре Лакатос предложил модель исследовательских программ, которая предполагает, что в науке могут существовать различные конкурирующие описания данных наблюдений и экспериментов, предлагающие различные теоретические рамки. В результате принятой оказывается та теоретическая модель, исследовательская программа которой способна объяснить наиболее удовлетворительным образом имеющиеся данные наблюдений и экспериментов. Нечто подобное Макграт видит в доктринальном развитии первых веков христианства, в процессе которого «ранние интерпретативные предложения … были отвергнуты не потому, что они рассматривались как угроза…, но потому, что они были найдены интеллектуально и доксологически неадекватными»10.
Акцент на определенной степени параллелизма между раннехристианским доктринальным развитием и развитием современных научных теорий отмечался многими исследователями. Для выражения этого акцента Макграт использует метафору «раннехристианской богословской лаборатории», которая «предлагает организованные образные рамки для придания смысла сложному, дисперсному и децентрализованному процессу богословской рефлексии, который имел место в христианских общинах первых четырех веков»11. Эти раннехристианские лаборатории представляют собой локальные попытки наиболее адекватным образом выразить «веру, однажды преданную святым» (Иуд 1:3). Макграт, ссылаясь на философа Чарльза Тайлора12, проводит параллель с поиском наилучшего объяснения в других областях знания. Здесь наилучшее объяснение касается не только данных Откровения, но и смысла того опыта христианской общины, который она восприняла от апостолов. Наилучшее объяснение не заключается исключительно в рациональных попытках объяснения данных наблюдений и опыта на основании отстраненного теоретического анализа, скорее оно включает в себя все многообразие опыта богообщения, представленного в апостольской традиции. Согласно Макграту, развитие ортодоксии представляет собой доктринальные рамки, которые сконструированы на основании целостного восприятия апостольской традиции. Эти доктринальные рамки не были даны в Новом Завете в готовой форме, но явились результатом стремления сконструировать когерентное представление, наиболее полно воспринявшее апостольское свидетельство. При этом раннехристианские богословские споры рассматриваются как важный стимул для развития христианской доктрины, принятия наиболее адекватных форм ее выражения и отвержения тех форм, которые игнорировали существенную часть Предания. Макграт подчеркивает, что хотя полнота Откровения Иисуса Христа была передана апостольской Церкви, ортодоксия в ее доктринальном выражении конструируется в истории. Ортодоксия, таким образом, предстает как когерентное выражение полноты апостольского предания, но формируется это когерентное выражение в истории, проходя испытание богословскими спорами, дискуссиями и конфликтами. В связи с этим Макграт считает, что простая дихотомия ортодоксия / ересь не позволяет в достаточной мере оценить сложность богословских вопросов, которые решались в истории доктрины. Макграт использует метафору лаборатории, полагая, что она лучше передает суть тех процессов, которые происходили в христианском богословии первых веков: «христианская доктрина развивалась с течением времени, поскольку богословы и лидеры церкви искали лучшей “большой картины” или теории, чтобы интегрировать основные элементы традиции, включая доксологическую практику»13.
Поскольку Макграт постоянно проводит параллели с наукой, то ортодоксия в его понимании становится соизмеримой с т. н. «хорошей наукой». Однако здесь возникает вопрос о критериях оценки. Если в качестве критерия хорошей науки можно взять критерии соответствия теории данным наблюдений и экспериментов, то какой исторический критерий можно взять для отделения ортодоксии от ереси? Ситуация становится сложнее и соизмеримость между доктринальным развитием и развитием исследовательских программ в науке проблемной. Макграт полагает, что выход из этой ситуации есть, и заключается он в использовании метода абдукции или вывода к наилучшему объяснению из имеющихся данных.
В качестве примера Макграт приводит богословие свт. Афанасия Александрийского и Ария. Оба были согласны в том, что Христос был Спасителем. Однако какие рамки интерпретации лучше позволяют принять образ Иисуса Христа как Спасителя? Очевидно, что для ответа на этот вопрос необходимо принять всю полноту апостольского предания, выраженную не только в новозаветных текстах, но и в литургической практике Церкви. С этой точки зрения христология Ария является ущербной, поскольку если Христос является высшим творением Божиим, то поклонение Ему будет тождественно идолопоклонству: «Данность христианского почитания Христа требовала хри-стологии, которая была соизмерима с такой доксологией»14, или, выражаясь более традиционно — «lex orandi est lex credendi». Доктринальное развитие в понимании Макграта нацелено на то, чтобы раскрыть имплицитную теологию, представленную в и через христианские практики и сделать ее явной. Именно таким был подход свт. Афанасия Александрийского, представленный в его сочинении «О воплощении Бога Слова» и дополненный последующими анти-арианскими сочинениями. Корреляция теологии и практики стала важнейшим элементом защиты им учения о воплощении Бога Слова. Макграт подчеркивает, что сама структура аргументации свт. Афанасия следует абдуктивной логике Ч. С. Пирса, опираясь также на традиционное для античного мира понимание единства теории и практики: «Для Афанасия — но не для Ария — раннехристианская практика почитания Христа одновременно воплощает и раскрывает христианскую теорию — способ понимания мира и действия веры»15. Концепция воплощения свт. Афанасия обладает большей объяснительной силой, нежели концепция Ария, поскольку дает единственное возможное объяснение способности Христа спасти человечество.
Исторические примеры того, как раннехристианские авторы стремились найти лучшее понимание Иисуса Христа, по мнению Макграта, поднимают вопросы в отношении природы доктрины, поэтому следующая глава работы посвящена исследованию функций христианской доктрины. И для анализа функций и природы христианской доктрины Макграт обращается к концептуальному анализу, представленному Дж. Линдбеком в его работе «Природа доктрины»16. Как известно, Линдбек предложил три модели доктрины: 1) «когнитивно- пропозиционную», подчеркивающую когнитивные аспекты религии и выраженную в информативных суждениях; 2) «опытно выраженную», интерпретирующую доктрины как символы внутренних человеческих чувств и их отношений; и 3) культурно- лингвистическую или регулятивную теорию доктрины, рассматривающую религию как вид «культурных и / или лингвистических рамок или среды, оформляющей всю жизнь и мысль»17. Макграт признает, что такое представление доктрины является проблематичным, поскольку такая классификация, во-первых, не соответствует реальной практике богословия, во-вторых, использует устаревшие подходы к пониманию религии, и, в-третьих, не связывает регулятивную роль доктрины с суждениями об ее истинности. Наконец, главная проблема заключается в том, что предложенные доктринальные модальности всегда являются взаимосвязанными друг с другом и практически никогда не существуют одна в отрыве от другой18. Христианская доктрина не сводится ни к одной из этих моделей, и, более того, ни один из подходов Линдбека не может считаться определяющим и доминирующим над остальными. Подход Линд-бека к христианской доктрине в конечном итоге приводит к принижению ее статуса, поэтому А. Макграт, будучи критическим реалистом, обращается к метафоре «картографирования сложной реальности» британского философа Мэри Мидгли. Данная метафора широко используется в диалоге науки и богословия и является полезным инструментом для понимания того, как наши ограниченные человеческие представления соотносятся с реальным миром19. В своих работах Мидгли акцентирует внимание на том, что «никакой образец человеческой мысли — даже физический — не является фундаментальным» в том смысле, что все остальные рано или поздно будут сведены к нему20. Для описания сложной и многослойной реальности, в которой мы существуем, необходимы различные подходы различных дисциплин, представляющие собой нечто похожее на карты с различным разрешением и различным предназначением, которые представлены в атласе карт. Каждая из множества карт описывает определенный аспект реального мира, но каждая из них продолжает оставаться неполным описанием реальности, однако все вместе они дают нам более целостное и объемное, хотя и не исчерпывающее представление о реальном мире. Метафора картографирования сложной реальности является ценной как в силу ее антиредукционистской позиции, так и в силу того, что наши человеческие средства оказываются неадекватными и недостаточными как для описания многоаспектного характера тварного мира, в котором мы живем, так и трансцендентной реальности, к которой обращено богословие. Метафора М. Мидгли позволяет Макграту скорректировать редукционистское представление доктрины Дж. Линдбеком и представить аспекты доктрины как интегральные элементы большого целого, имеющие своей целью выразить и подчеркнуть христианскую идентичность. Макграт отмечает, что одна из ключевых функций христианской доктрины состоит в том, чтобы помочь установить центральный фокус и периферийные границы общины веры: «Доктрина — это одно из средств — возможно, наиболее важное из таких средств — с помощью которых христианская община веры была способна идентифицировать свое центральное место и размышлять в отношении своих границ на протяжении обширного периода времени»21.
Вторая функция доктрины, согласно Макграту (и в этом он согласен с Линдбеком), заключается в интерпретации и оправдании религиозного опыта. Однако между опытом и доктриной существует определенная степень кругообразности. С одной стороны, как подчеркивалось выше, «правило молитвы определяет правило веры», с другой стороны, правило веры оказывает влияние на практику религиозной жизни. Опыт нуждается в интерпретации, и христианская доктрина предлагает рамки для такой интерпретации. Например, как указывает К. С. Льюис, «чувство неудовлетворенности … может быть интерпретировано различными способами, наиболее удовлетворительный из которых состоит в том, что люди были созданы, чтобы иметь связь с Богом, и это чувство остается экзистенциально не укорененным до тех пор, пока люди не войдут в такое отношение»22. Главный вопрос, согласно Льюису, заключается в том, какой «концептуальный образец» представляет собой лучшее объяснение этого опыта. Таким образом, согласно Макграту, «доктрина является и ответом на опыт реальности верующего, и рамками для интерпретации опыта»23. Макграт видит здесь прямую параллель для диалога с естественными науками. Научные теории имеют своим началом опыт наблюдения мира, которые приводят к возникновению определенных теоретических рамок для объяснения наблюдений и их координации. Однако затем теоретические рамки вновь проверяются в последующих наблюдениях и экспериментах. Таким образом возникает «герменевтическая спираль» восхождения от опыта к пониманию. Эта спираль восхождения более детально исследовалась Бернардом Лонерганом и представлена в его трансцендентальном методе: опыт — понимание — суждение — решение24. Макграт не касается здесь подхода Лонергана, но определенный параллелизм, несомненно, присутствует.
Следующая функция доктрины, согласно Макграту, заключается в том, что она является мостом между настоящим и прошлым. Размышляя над апостольским символом веры, Макграт задает вопрос об экзистенциальном значении событий истории спасения. Чтение символа веры имеет значение, но еще большее значение имеет ответ на вопрос, что это означает для меня лично в моей жизни? Доктрина имеет отношение не только к прошлому, настоящему и будущему, доктрина имеет прямое и непосредственное отношение к моему спасению. Наконец, Макграт подчеркивает, что доктрина выступает и как маркер социальной идентичности. Доктрина оформляет центр и границы веры, что имело и продолжает иметь следствия для социальной идентичности христианских общин. Доктрина расширяет чувство идентичности сообщества, способствуя его демаркации от других сообществ, и Макграт приводит ряд исторических примеров такой демаркации. И если в истории такая демаркация была вполне явной и осознаваемой, то сегодня, в век экуменизма, такая демаркация зачастую становится проблематичной. Макграт снимает эту проблематичность посредством акцента на том, что экуменизм необязательно должен быть ориентирован на стирание доктринальных различий, скорее, экуменические дискуссии ориентированы на то, чтобы доктринальные формулировки перестали быть маркерами социальной демаркации25. Несмотря на то, что Макграт использует столь инклюзивный язык для экуменического взаимодействия, остается проблематичной сама его позиция. Каким образом, например, «доктрина оправдания верой», являвшаяся социальным демаркатором лютеран в их полемике с католиками, утратив эту демаркационную роль в современном экуменическом диалоге, будет продолжать оставаться истиной? Ясного ответа на этот вопрос Макграт, к сожалению, не дает.
Следующая глава — «Три мира христианской доктрины: теоретический, объективный и субъективный», опирается в своем понимании на концепцию трех миров К. Поппера. Начиная свою работу с утверждения, что доктрина является теорией христианского сообщества, Макграт подчеркивает, что этот термин должен пониматься не в современном, а в изначальном смысле, включающем в себя вовлеченность и причастность сакральным событиям и практикам, включающий в себя созерцание и не ограниченный исключительно когнитивным элементом. Концепция трех миров Поппера лучше соответствует целям Макграта, нежели трехаспектное представление доктрины Дж. Линдбеком. Кроме того, модель Поппера позволяет провести еще одну параллель между научными теориями и христианскими доктринами. Три мира Поппера включают: 1) мир физических объектов или физических состояний; 2) мир состояний сознания или ментальных состояний; 3) мир объективного содержания мысли. Научные теории и христианские доктрины в такой классификации должны быть отнесены к «миру № 3». Макграт подчеркивает полезность такого деления для более глубокого понимания всех аспектов человеческой деятельности, поскольку это позволяет структурированно сопоставить мир объективных научных представлений, мир субъективного человеческого опыта и мир рефлексии, который является связующим для первых двух миров. В отношении христианской доктрины это позволяет осуществить корреляцию объективного, субъективного и теоретического аспектов доктрины.
Обращаясь к понятию артикуляции Ч. Тайлора, Макграт подчеркивает, что артикуляция доктрин в прошлом является ценным ресурсом для настоящего. Она позволяет вновь и вновь обращаться к источникам этой артикуляции в прошлом и искать новые пути артикуляции доктрины в настоящем, чтобы «размышлять о нуждах, озабоченностях и мировоззрении каждой эпохи»26. Как уже было отмечено, доктрины относятся к «миру № 3» К. Поппера, однако такое отнесение страдает чрезмерной объективацией. Макграт в качестве примера приводит т.н. «теории искупления», которые часто кажутся техническими и абстрактными, дистанцированными от исторических событий распятия, смерти и воскресения Иисуса. Макграт вновь напоминает, что классическое понимание теории не было объективированным и отстраненным, но предполагало вовлеченность в созерцание и причастность созерцаемому. Христианские доктрины не должны изучаться с «холодной отстраненностью» подобно формулам физики или математики, поэтому отнесение их к «миру № 3» Поппера предполагает тесную связь с другими мирами, в частности, с миром субъективности — «миром № 2». Теория в ее античном понимании предполагала причастность созерцаемому, и эта причастность выражается Аристотелем эмоционально, когда он подчеркивает, что философия начинается с удивления. Макграт подчеркивает, что опыт удивления, трепета, благоговения может быть действительно меняющим религиозным опытом. Однако, говоря о доктрине, Макграт акцентирует внимание на том, что в богословском плане этому соответствует понятие славы Божией, или, по слову Р. Отто, mysterium tremendum et fascinans, перед которой человек умолкает в трепете. Парадокс богословия заключается в том, что оно проистекает из встречи с невыразимой тайной Бога, тайной, перед которой человек должен умолкнуть, и, в то же время, о которой он не может не говорить. Неудивительно, что К. Барт утверждал, что «любое богословское утверждение является неадекватным выражением его объекта»27.
Макграт подчеркивает, что в корректной артикуляции христианской доктрины ключевую роль играет практика христианских сообществ, выраженная в богослужении и молитве. Языком этой практики является религиозная поэзия, которая использует язык образов и символов, указывающих на трансцендентную реальность Божественного бытия. Будучи англиканином, Макграт исследует религиозную рефлексию поэта XVII в. Дж. Герберта, но ключевые линии его мысли применимы к религиозной поэзии в целом. Теория как созерцание позволяет нам быть причастными трансцендентной тайне Бога, а ядро христианской веры связывает «мир № 3» и «мир № 2» Поппера. Далее, рассматривая учение о Боговоплощении, Макграт подчеркивает неразрывную связь этих миров с «миром № 1». Таким образом, христианское учение о Боговоплощении объемлет теоретический, субъективный и объективный аспекты.
Объективный подход к воплощению предполагает, что мы говорим о вхождении Бога в человеческую историю в конкретный момент времени и пространства для того, чтобы осуществить спасение человечества. Но что это означает сегодня, в начале XXI в.? Макграт обращается к мысли богослова XX в. Томаса Торранса28, который подчеркивает, что воплощение есть «топос или место, где находится Бог». Воплощение — это событие, которое меняет отношение Бога и тварного порядка. С одной стороны, это объективный факт, относящийся к «миру № 1» Поппера, с другой стороны, это ключевая христианская доктрина, относящаяся к «миру № 3». Однако Макграт вопрошает о мире субъективности. Стремление к объективации может привести к игнорированию аспектов субъективности человеческого существования29. Опираясь на библейское понятие места в интерпретации библеиста Уолтера Брюгге-мана, Макграт подчеркивает: действие Бога в истории предполагает не только объективный аспект, но и субъективный, поскольку Бог действует всегда в отношении человека и народа в конкретных исторических обстоятельствах места и времени. Макграт отмечает, что доктрина воплощения имеет объективный и субъективный аспекты, поскольку одна из функций христианской доктрины состоит в том, чтобы позволить верующим видеть реальность Бога более ясно30. Христианская доктрина представляет собой форму теории, фундаментальная роль которой заключается в том, чтобы нести свидетельство о Христе, позволяя нам видеть Его во всей полноте. Таким образом, доктрина касается не абстрактного теоретизирования, а личной причастности. Это стремление видеть Бога является парадоксальным, и парадоксальность этого выражена, с одной стороны, в стремлении великих ветхозаветных пророков увидеть Бога, а с другой, в невозможности этого и запрете на изображения. Новозаветное откровение говорит о том, что Христос есть «образ невидимого Бога» (Кол 1:15), таким образом разрешая парадокс, который существовал на протяжении всей ветхозаветной истории. Тем не менее, опираясь на исторические исследования раннего христианства, Макграт признает, что ани-конизм присутствовал в раннем христианстве по крайней мере в течение первых двух веков, но затем происходит трансформация этого представления, и ключом к этой трансформации послужило христианское учение о Бого-воплощении: «Бог, Который не мог быть видимым, избрал стать видимым в форме Христа, таким образом придав законность иконным формам говорить и представлять Бога…»31 Доктрина Боговоплощения также усиливает акцент на возможности говорить о встрече с Богом лицом к лицу, встрече, без которой религия лишается своего положительного содержания. А. Эйнштейн мыслил Бога как развоплощенный безличный разум, находящийся позади наблюдаемой Вселенной, который не может быть ни познан, ни наблюдаем и становится чисто абстрактным теоретическим конструктом32. В противоположность этому христианство делает особый акцент на встрече и отношении, нежели абстрактном когнитивном познании.
Одним из важнейших вопросов, которым занимается богословие, является вопрос о смысле человеческого существования. Как учение о Боговоплощении может придать смысл человеческой жизни? Макграт отвечает на этот вопрос, подчеркивая, что ключевым высказыванием Евангелия, имеющим отношение к обретению человеком смысла, является следующее: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины…» (Ин 1:14). Боговоплощение подчеркивает значение тварного порядка, является откровением сострадания Божия и заботы о мире и человечестве, а также позволяет изменить человеческую ситуацию, предложив новый способ существования — «во Христе». Христос является воплощением смысла, которого мы ищем33. Этот новый способ существования «во Христе» позволяет переосмыслить и одну из труднейших проблем — проблему страдания.
На протяжении веков христианские богословы и философы религии развивали различные представления о том, как существование боли и страдания в мире может быть примирено с благостью Божией. Однако проблема заключается в том, что «опыт страдания от первого лица не может быть с легкостью соединен с интеллектуальными абстракциями от третьего лица»34. Рассуждения от третьего лица всегда остаются пустыми и холодными. Макграт отмечает, что стремление построить теодицею является изобретением эпохи модерна, отражающей гегемонию некоторых концепций рациональности и смысла, возникших в XVII–XVIII вв. Макграт признает, что в Новом Завете не дается никакого варианта подобной рациональной схемы оправдания страданий, однако там есть нечто большее — понимание того, что страдание происходит не вопреки действию Христа, но вследствие действия Христа. Ап. Павел не предлагает рационального объяснения страданий, но объясняет страдание как причастность страданиям Христовым, подчеркивая, что в страданиях человек не отвергнут Богом, но, напротив, любим и сопровождаем Христом35. Мы можем справиться со страданием только в том случае, если мы видим мир иным образом — во Христе и через Христа, что является частью практики христианского образа жизни. Таким образом, христианская доктрина позволяет нам видеть мир иным образом, раскрывая те онтологические грани, которые вне этого понимания остаются для нас закрытыми.
Следующая глава — «Доктрина. Онтологическое раскрытие и координирующие рамки», посвящена рассмотрению статуса доктринальных утверждений. Для визуализации этого представления Макграт использует метафору доктрины как нити или струны, на которую нанизаны жемчужины наблюдения. Таким образом, доктрина выступает в качестве связующей нити координации религиозного опыта. Однако такое узкое представление о доктрине явно недостаточно, поскольку, например, доктрина воплощения была не просто средством соединения новозаветных свидетельств о Христе, но и утверждением об идентичности Иисуса Христа. Подобным образом учение о Св. Троице является одновременно и онтологическим утверждением о Боге, и эпистеми-ческими координирующими рамками, которые позволяют понять остальные элементы христианского учения о спасении. Макграт выделяет онтическое и эпистемическое понимание доктрины, проводя параллель между эпистеми-ческим и онтическим пониманием в естественных науках.
Эпистемическое понимание предполагает развитие определенных познавательных структур в уме наблюдателя, онтическое утверждает, что объяснение предполагает выявление онтических структур во внешнем мире вне разума наблюдателя, ответственных за объясняемые явления и процессы. В естественных науках сложность всегда заключается в том, что не существует заранее предопределенных онтологий, поэтому всегда остается вопрос, требуют ли наши наблюдения и опыт такой онтологии, чтобы придать им смысл. Макграт обращается к взглядам У. Куайна, который подчеркивал, что каждая естественная наука имеет свой собственный набор объектов с онтологическим статусом. Проблема, однако, заключается в том, что в естественных науках присутствует, по крайней мере, два подхода — инструментализм и реализм, которые различным образом решают вопрос об онтологическом устройстве мира. Инструментализм предполагает, что научные теории представляют собой полезные инструменты для ответа на вопросы и решения проблем в конкретной области дискурса, без какой-либо претензии ответить на вопрос о природе вещей. С другой стороны, научный реализм нацелен на то, чтобы от наблюдений о мире двигаться к реальностям, скрытыми за феноменами, т.е. на выявление онтических структур, предлагающее истинное представление о природе реальности. Хотя обе позиции (инструментализм и реализм) являются вненаучными суждениями, тем не менее, научный реализм является в некоторой мере предписанным самим опытом науки, поскольку онтологический минимализм инструментализма не способен объяснить успешность научного объяснения явлений36. Однако какое отношение этот философский спор может иметь к обсуждению природы христианской доктрины?
Макграт полагает, что развитие христианской доктрины имеет определенный параллелизм с развитием научных теорий. Почему христианское учение о Боге обладает сложным каркасом догматов и богословских определений? Христианская доктрина представляет собой результат объединения свидетельств опыта общения со Христом апостольской Церкви в когерентное целое. Причем это когерентное целое невозможно рассматривать инструменталистски просто как попытку «спасти явления», но следует учесть опыт апостолов, которые первыми осуществили поклонение Иисусу Христу как истинному Богу. Таким образом, доктрина воплощения была онтологическим раскрытием истины о Христе, соединившим воедино множество апостольских свидетельств о Нем. Среди этих свидетельств Макграт выделяет пять ключевых, которые требуют принятия той онтологии, которая является выражением христианской ортодоксии: 1) настойчивое использование титула Господь в отношении Иисуса; 2) миссия исцеления и прощения грехов, которую совершает Иисус; 3) использование в применении к Иисусу термина «Спаситель»; 4) воскресение Иисуса Христа; 5) практика поклонения Христу. Макграт задает вопрос о том, какая когерентная картина может быть построена из всех свидетельств о Христе, которые представлены в апостольском предании? Наконец, каков статус этой когерентной картины — инструменталистский или онтиче-ский? Макграт признает, что учение свт. Афанасия Александрийского более полно и всеохватно учитывает свидетельства апостольского Предания, нежели концептуальная схема Ария, а объяснительный успех его понимания вполне понятен, если он является следствием онтологии37. Подобным образом Макграт рассматривает учение о Св. Троице, подчеркивая, что оно координирует множество элементов библейского свидетельства о Боге. Действия Божии в домостроительстве спасения обладают онтическими следствиями, и задача богословия их раскрыть и исследовать. Именно вследствие этого раскрытия и исследования христианское богословие учит о Боге, Едином по существу и троичном в Лицах.
Последняя глава книги посвящена рассмотрению учения о спасении, его когерентности и всеохватности. Сложность и многоаспектность новозаветного учения о спасении известна давно, и мы встречаем множество попыток выразить эту многоаспектность различными способами. И если зачастую эти концептуализации рассматриваются как отдельные острова, то Макграт склонен видеть в них различные участки единой береговой линии. Он здесь использует метафору, заимствованную у И. Кеплера в его попытке построить когерентную модель гелиоцентрической системы мира. Учение о спасении включает в себя два компонента — вопрос о том, каким образом спасение достижимо, и формы, которые спасение принимает. Если в Новом Завете главным образом артикулирована действительность спасения, то христианские богословы последующих эпох зачастую стремились продемонстрировать рациональность веры, разрабатывая свои модели понимания спасения.
Макграт делает важное замечание в отношении известной фразы «теории искупления». Сама по себе фраза является богословской инновацией XIX в. и предполагает обращение внимания на рационализацию процесса искупления. Макграт подчеркивает, что главная проблема с «теориями искупления» лежит в ошибочном понимании термина «теория», который используется здесь по аналогии с естественными и гуманитарными науками38. Наконец, использование этих терминов в догматическом богословии порождает ложное мнение, что существует некоторая «правильная теория искупления», которой следует придерживаться, в то время как новозаветное Откровение и отцы Церкви озабочены не разработкой теорий искупления, а возвещением спасения через Иисуса Христа. Неслучайно поэтому еп. Каллист (Уэр) в своих лекциях предпочитал говорить не о теориях, а о моделях или подходах к пониманию искупления, каждый из которых углубляет и расширяет наше понимание того, что сделал для нашего спасения Господь Иисус Христос. В согласии с ним Макграт подчеркивает, что необходимо восстановить классическое античное понимание теории, включающей в себя рациональный и эмоциональный аспекты христианской веры, не сводя сложность новозаветного учения о спасении к отдельным его моделям и интерпретациям. Эти модели и интерпретации могут рассматриваться как различные карты, согласно интерпретации М. Мидгли, отражающие отдельные аспекты доктрины и дополняющие друг друга, а не противопоставленные друг другу.
Макграт признает, что индивидуализм эпохи раннего модерна привел к формированию юридических подходов ко спасению, трансформирующих ситуацию индивида и игнорирующих общинный характер спасения39. Кроме того, Макграт подчеркивает, что образы и метафоры, выражающие христианское учение о спасении, являются глубоко контекстуальными и требуют сегодня детального прояснения, однако все они исходили из одного центрального места — смерти и воскресения Христа. Новый Завет различными способами настаивает на том, что спасение осуществляется во Христе и через Христа, и осуществляется через соединение с Ним. Спасение осуществляется через причастность Христу и преображение через Христа, и не может быть сведено к безличным категориям, которые проявились в Средние века в учении Ансельма Кентерберийского. Макграт обращает особое внимание на трактат Ансельма «Cur Deus Homo», признавая справедливость большей части критики, направленной против его подхода. Он признает справедливость критики Ансельма В. Лосским, однако извиняет Ансельма тем, что он писал апологетический трактат, имевший своей целью обосновать рациональность спасения в полемике с иудеями и мусульманами40.
В итоге Макграт предлагает для понимания спасения четыре новозаветных метафоры или образа спасения, которые позволяют нам понять, в чем состоит смысл и содержание спасения: 1) приближение к Богу как очищение; 2) спасение как исцеление или восстановление целостности; 3) спасение как освобождение от уз рабства; 4) спасение как принятие в новую семью (метафора усыновления). Последний образ был хорошо знаком людям в античном мире, когда глава семейства был свободен усыновить человека, обеспечив его полностью всеми правами и законным статусом. Разумеется, Макграт признает, что новозаветное учение не исчерпывается этими метафорами, и призывает исследователей «уважать сложность и специфичность его нарративов и метафор, нежели создавать единый нарратив, который контролирует и нивелирует множество голосов и стилей — склонность, связанная с модернистским образом мышления»41. С точки зрения Макграта доктринальная задача заключается в том, чтобы подчеркнуть взаимную когерентность и взаимосвязанность новозаветных образов, не принижая значения каждого из них, подход, который был представлен в лекциях еп. Каллиста (Уэра).
В заключении автор ставит вопрос о будущем христианской доктрины. Анализируя путь развития христианства за последние полвека, Макграт приходит к выводу, что в будущем жизнеспособными окажутся те формы христианства, которые будут обладать сильной доктринальной преданностью и будут обладать искусством артикуляции и провозвестия своего понимания этих доктрин. Макграт признает, что на Западе в последние годы происходит упадок «культурного христианства», когда присутствие христианства в культуре повсеместно ставится под сомнение42. Говоря о будущем христианства, он подчеркивает, что для своего выживания оно должно предложить осмысленный путь жизни и на этом пути роль доктрины является ключевой. Доктрина является артикуляцией изменяющих жизнь реальностей, которые лежат в сердце христианства. Доктрина должна преподаваться не как вербальная формула, но как артикуляция великого и преображающего видения реальности, богатство которой обогащает жизнь и дает надежду тем, кто открыл для себя этот путь.
Книга «Природа христианской доктрины. Ее истоки, развитие и функции» профессора Алистера Макграта будет интересна и полезна всем, кто интересуется историей и развитием христианского вероучения, и станет важным стимулом к размышлению об основаниях христианского догматического богословия.