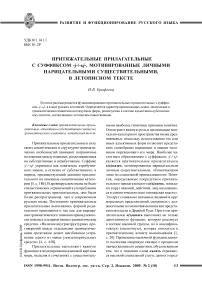Притяжательные прилагательные с суффиксом-j-/-ьj-, мотивированные личными нарицательными существительными, в летописном тексте
Автор: Ерофеева Ирина Валерьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (10), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается функционирование притяжательных прилагательных с суффиксом -jl-ьj- в языке русских летописей. Определяется характер производящих основ, лексическая и грамматическая семантика исследуемых форм, реализуемая в составе адъективно-субстантивных синтагм, составляющих летописное повествование.
Притяжательные прилагательные, адъективно-субстантивная синтагма, грамматическая семантика, летописный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14970171
IDR: 14970171 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Притяжательные прилагательные с суффиксом-j-/-ьj-, мотивированные личными нарицательными существительными, в летописном тексте
Притяжательные прилагательные в силу своих семантических и структурно-грамматических особенностей занимают пограничное положение между именами, разделившимися на субстантивные и атрибутивные. Суффикс -j-/-ьj- укрепился как показатель атрибутивного имени, в отличие от субстантивного, в период, предшествующий делению прилагательного на основные семантические категории [5, с. 186]. В древнерусском языке не было стилистических ограничений в употреблении притяжательных прилагательных, они были более распространены, чем в современном русском языке. Постепенно притяжательные прилагательные вытеснялись формой родительного приименного, так как для выражения грамматического значения принадлежности имелись альтернативные грамматические средства. «Наличие внутриструктурных противоречий между отдельными грамматическими средствами делает неизбежным устранение одного из менее удовлетворительных средств» [4, с. 458].
Прилагательные выполняют важную функцию в моделировании языковой картины мира, выделяя в сочетаниях с существитель- ными наиболее типичные признаки понятия. Они играют важную роль в организации ментально-культурного пространства языка средневековья, поскольку использование тех или иных адъективных форм позволяет представить своеобразие перцепции и оценки человеком окружающего его мира. Наиболее частотным образованием с суффиксом -j-/-ьj-является притяжательное прилагательное к(ъ)няжь, мотивированное нарицательным личным существительным, обозначающим лицо по социальной принадлежности. Понятия, определяемые посредством притяжательного прилагательного к(ъ)няжь, попадают в круг явлений, действий, лиц, находящихся в семантическом поле «княжеская власть». Это круг социально значимых явлений и круг моральных представлений, связанных с должностными полномочиями князя как представителя власти в Древней Руси. При этом прилагательное к(ъ)няжь выполняет не только денотативную функцию, которую реализует в составе именной группы, но и квалифика-тивную (оценочную), которая относится к прагматическому аспекту высказывания [1, с. 20]. Проявление оценочной функции данного посессива напрямую связано с процессом окачествления его семантики, обусловленным тем, что в значении слова кънязь отражается высокий социальный статус данного пред-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ставителя власти в иерархии средневековых отношений.
Как и другие адъективы подобного рода, прилагательное к(ъ)няжь могло выражать самые разнообразные значения, свойственные притяжательным прилагательным: от обозначения принадлежности конкретному лицу до категориально-притяжательного, относительного и даже качественного значения. Уже в древнерусский период расплывчивость границ между разрядами составляет отличительное свойство прилагательных. Грамматическая семантика адъектива к(ъ)няжь обнаруживается в синтагме и находится в зависимости от характера существительного, с которым оно согласуется. Если существительное обозначает конкретный предмет, а под князем подразумевается конкретное, определенное лицо, то прилагательное выступает с лично-притяжательным значением, если же определяемое существительное имеет отвлеченное значение, а слово кънязь выступает с обобщенно-родовым значением, называя лицо по роду деятельности, то и притяжательное прилагательное выступает с категориально-притяжательным значением, которое приближается к относительному. В составе лексикализованных сочетаний, часто имеющих терминологический характер, значение личной принадлежности у прилагательного к(ъ)няжь замещается значением категориальной отнесенности.
Наиболее популярным сочетанием с данным адъективом в летописных текстах является словосочетание к(ъ)няжь дворъ , в котором лично-притяжательное значение посессива осложнено оттенками категориальной притяжательности и качественности. В данной адъективно-субстантивной синтагме грамматическое значение прилагательного зависит от лексического значения слова дворъ , которое характеризуется синкретизмом семантики. Слово дворъ , хотя и имеет собственно бытовое конкретизированное значение, относится к важным понятиям средневекового сознания, поэтому и отличается сложной семантической структурой и способностью к выражению разнообразных оттенков значения в контексте.
-
1. Если в сочетании к(ъ)няжь дворъ суб-стантив имеет конкретизированное значение
-
2. Если слово дворъ имеет более широкое значение «огороженный участок земли, на котором находятся жилые и хозяйственные постройки; двор, где собиралось вече и вершился суд», то значение индивидуальной при-тяжательности у слова к(ъ)няжь осложняется качественным оттенком. В таком случае прилагательное к(ъ)няжь обозначает не только «принадлежащий князю», но и «главный, руководящий»: « И при h ха въ мал h дружин h на княжь дворъ. и выл h зе противу его Свя-тополкъ » (ПВЛ, 87 об.).
-
3. В сочетаниях со словом дворъ в метонимическом значении «совокупность служилых людей или вассалов при усадьбе феодала; войско, состоящее из этих людей» реализуется категориально-притяжательное значение прилагательного к(ъ)няжь : « Князь же, Ярославъ и Володимиръ съ сыномъ и с но-воторжьци, княжь дворъ, новгородцевъ мало... поидоша по нихъ » (НIЛ, 101 об.).
«жилище дом, усадьба», то прилагательное к(ъ)няжь выступает с собственно притяжательным значением: « Б h бо двор княжь вн h града » (МЛС, 67). Такое же значение прилагательного отмечается и в синтагмах, где слово дворъ имеет метонимическое значение «хозяйство, имущество»: « Дворъ жь княжь разграбиша бещисленое множьство злата и сребра кунами и б h лью » (ПВЛ, 58).
И в семантическом, и в синтаксическом плане прилагательное составляет класс слов, обладающий свойством опосредованности. «Прилагательные, как слова предикатной семантики, имеют размытую сферу значений и, легко вступая в различные виды коннотативных связей, образуют разнообразные семантические поля» [1, с. 7]. Грамматическая семантика прилагательного к(ъ)няжь находится в зависимости от значения существительных, которые оно определяет. Оно является атрибутивным компонентом в синтагмах с разными группами существительных: одушевленных и неодушевленных, конкретных и отвлеченных. В сочетаниях с нарицательными существительными, являющимися наименованиями лица по должностному положению, в значении прилагательного к(ъ)няжь актуализируется социальный компонент: бояре княжи, намhстниковъ княжих, воевода княжь, ·в· отрока княжа, где отрокъ «слу- га, служитель». Поскольку в семантике существительного бояринъ «старший дружинник, советник князя» уже заложен компонент «княжеский», то оно выступает в летописном тексте с дополнительными уточняющими определениями, образованными от имен собственных: бояръ княжих Андрhевых (МЛС, 200); бояре княжи Дмитриевы (МЛС, 197) и др. Употребление имен собственных в подобных синтагмах составляет устойчивую синтаксическую черту средневекового текста. Существительные намhстникъ в значении «представитель светской или церковной верховной власти», воевода в значении «начальник» выступают в таких же конструкциях: намhстникъ княжь Дмитреевъ (МЛС, 375 об.); воевода княжь Андрhевъ (МЛС, 393 об.).
Многообразие синтагм с компонентом к(ъ)няжь , определяющих существительные военной семантики, отражает ратную деятельность князя в Древней Руси: княжии пол-ци , княжа рать , княжа дружина , княже оружье и кони и др.
Наконец, определение к(ъ)няжь выступает и при субстантивах отвлеченной семантики. При словах с темпоральным значением животъ и смерть прилагательное к(ъ)няжь выступает в субъектном значении. В сочетаниях с отвлеченными существительными, обозначающими моральные представления, например словом воля , прилагательное к(ъ)няжь утрачивает значение личной принадлежности и выступает с относительным значением: « Тогда же тысячское даша Ратибору Клюксо-вичю по княжеи воли » (МЛС, 187 об.). Сочетание по княжеи воли отмечается в единичных случаях, в то время как параллельная синтаксическая конструкция по божеи воли очень популярна в тексте летописей. Синонимичная конструкция пов h лениемъ княжимъ отмечается в творительном падеже с орудийным значением: « Тогда же убиша на Костром h Семена Тоньглиева, коромолника льстиваго, бояре княжи Дмитриевы, Онтонъ да Фо-фанъ, пов h лениемъ княжимъ » (МЛС, 197).
Адъективная форма к(ъ)няжь могла превращаться в неизменяемую проклитику. Существовало две формы такой проклитики: княжь и княже [5, с. 203]: «А единому отроку княже Федорову сыну Пестрого еще ходящу по сводом тhмъ» (МЛС, 424); «А новгородьць ту убиша 10 мужь: Феда Якуновича тысячьского, Гаврила щитни-ка... Федора Ума княжь дhцкои» (НIЛ, 119).
Эволюция форм притяжательных прилагательных заключалась в постепенном вытеснении нечленной формы к(ъ)няжь членной формой княжеи, -ая, -ее (-ои, -ая, -ое) , которая прежде всего распространилась на формы косвенных падежей единственного числа женского рода и множественного числа всех родов. Если в ПВЛ отмечается один случай употребления членной формы: от дружины княжее (ПВЛ, 52), – то в более позднем МЛС такие случаи становятся распространенными, причем отмечаются в том числе в форме именительного падежа множественного числа мужского рода: княжии полци (МЛС, 282); дворы княжие и боярьскые (МЛС, 332); и др. По всей видимости, здесь можно предполагать «влияние образований с суффиксом -ьj- на дериваты с суффиксом -j- , при этом финаль ИП -uj-ь ассоциировалась с членной флексией, что провоцировало развитие членной парадигмы» [3, с. 163–164]. В дальнейшем и эта форма вытеснилась словообразовательным синонимом, относительным прилагательным с суффиксом -ьск- к(ъ)няжьскыи , которое в летописных текстах было еще редкой формой. Оно отмечается всего один раз в МЛС: « Тои же упова-ше на любовь княжьскую » (МЛС, 271 об.).
В отличие от пары к(ъ)няжь – к(ъ)няжьскыи в паре челов h чь – челов h чьскыи более употребительным в языке русских летописей оказывается прилагательное с суффиксом -ьск- . Формы челов h чь – челов h чьскыи характеризуются общностью грамматической семантики, так как прилагательные на -ьск- , образованные от основ личных нарицательных существительных, как правило, имели значение родовой, категориальной принадлежности, или отнесенности [2, с. 51]. В этой паре морфологически маловыразительное прилагательное челов h чь в летописных текстах является редкой формой. Оно не фиксируется в ПВЛ, а в НIЛ представлено единичным примером: « Тъгда же окань-ныи дияволъ, испьрва не хотяи добра роду челов h чю » (НIЛ, 106), – где оно выступает в составе лексикализованного традиционно-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ книжного сочетания родъ челов h чь «человечество». В сходной конструкции в НIЛ представлено прилагательное челов h чьскыи : « Не хотя исперва оканьныи, всепагубныи дья-волъ роду челов h ческому добра » (НIЛ, 119).
В связи с тем, что в языке МЛС отразилось второе южнославянское влияние, прилагательное человhчь, как архаичное образование, получило в нем более широкое распространение: «Не имыи вида человhча» (МЛС, 313); «Елико не можеть ни умъ человhчь изрещи такова человhколюбиа божия» (МЛС, 337); «Яко диви звhрие, хотящи на-сытитися крови человhча» (МЛС, 369). В данных примерах реализуется категориально-притяжательное значение посессива человhчь «свойственный, присущий человеку, людям», ничем не отличающееся по своему характеру от относительного. По своему значению оно больше относительное, чем притяжательное. В средневековой традиции существительному человhкъ было свойственно отвлеченно-обобщенное значение. Поэтому образованное от него прилагательное не могло иметь значение личной принадлежности, что приходило в противоречие с тем грамматическим значением, которое выражал к этому периоду суффикс -j-. В результате возобладал словообразовательно-грамматический синоним человhчьскыи, который и получил широкое распространение в летописных текстах: «О многоименитая госпоже, царице небесныхъ чиновъ, присно и всея всея вселеныя и всего человhчьскаго живота кормителнице» (МЛС, 277 об.); «Не надhитеся на князя, на сыны человhчьскы, в них же нhсть спесения» (МЛС, 271 об.); «На видhние и на память роду человhческому и до сего дни» ( МЛС, 177); «Понеже исперва родъ человhческии женою съгрhши» (ПВЛ, 35 об.); «Бhси бо не вhдять мысли человhческое» (ПВЛ, 60); «Богъ единъ вhсть помышленья человhчьская» (ПВЛ, 60); «Он же не хотя славы человhчскыя. нача оуродьство тво-рити» (ПВЛ, 66); «Не может умъ человhчьскъ домыслити избьеныхъ» (НIЛ, 86). Как видно из приведенных примеров, прилагательное человhчьскыи определяет в основном существительные отвлеченного значения: родъ, мысли, помышленье, слава и под. – и представлено в синтагмах философско-религиозного содержания, что свидетельствует о его стилистической возвышенности.
Сочетания данного адъектива с личными именами обычно носят терминологический характер и также стилистически маркированы. Например, устойчивое выражение сынъ челов h чьскыи имеет традиционное значение «человек», поскольку слово сынъ выступало не только в узком смысле как термин родства, но и в широком «происходящий от кого или от чего». Таким образом, стилистически маркированными оказываются оба прилагательных челов h чь и челов h чьскыи , что связано с семантикой их производящей основы, тем глубоким религиозно-философским содержанием, которое имела лексема челов h къ в средневековом сознании.
Прилагательное отьчь мотивировано существительным с основой на -ьць. Как известно, существительные с этим суффиксом имели в славянских языках наиболее старый тип образования притяжательно-относительных прилагательных с компонентом -j- [5, с. 217]. По своему лексическому значению слово отьць относится к группе терминов родства, что определяет персонифицирован-ность его лексического значения в отличие от наименований лиц по профессии, социальному положению, национальности, где отдельное лицо выступает представителем определенного коллектива. Прилагательное отьчь, широко представленное в древнерусских летописях, реализует все варианты грамматического значения, свойственного прилагательным с суффиксом -j-. Оно выражает личнопритяжательное значение, если производящее существительное обозначает единичное конкретное лицо. При этом объектом обладания может быть не только конкретный предмет вещного мира, но и нематериальный, идеальный по свое природе предмет или явление: «И въступи Олег в любовь ко Изяславу без отча совhта» (МЛС, 84). Категориальнопритяжательное значение прилагательного отьчь реализуется в тех случаях, когда производящее имя употреблено с обобщенным значением, например, в цитате из священного писания «Клятва отча дом чадом раздру-шитъ, матернее же въздыхание до конца искоренит» (МЛС, 301) или в устойчивом выражении формульного характера: «Престу-пивъ заповhдь отьчю, паче же божию» (МЛС, 3). В сочетаниях с личными существительными также реализуется относительное значение посессива отьчь: с боляры отчими (МЛС, 14 об.).
В летописных сводах наблюдается распределение притяжательных прилагательных от основы отьць. В ПВЛ в этой функции наиболее употребительным является адъектив с суффиксом -ьнь отьнь. Суффикс -ьнь, образованный в результате расширения индоевропейского суффикса -ino посредством -jo- оказался качественно новым формантом, отличным от обоих своих компонентов [2, с. 15], поэтому он приобрел возможность выражать посессивное значение при осложнении личных основ, причем прежде всего терминов родства. В ПВЛ данный поссесив очень популярен: воевода отень Свhнделъ (ПВЛ, 22 об.); въ дворъ теремныи отень (ПВЛ, 24 об.); по устроению отьню и дhдню (ПВЛ, 44); дружина отня (ПВЛ, 45 об.); на столh отни (ПВЛ, 45 об.); заповhдь отню (ПВЛ, 61 об.). В притяжательном значении выступает и прилагательное с суффиксом -ьск- от основы отьць – отьчьскыи. В летописных текстах оно не относится к числу частотных образований. В МЛС и ПВЛ оно отмечается в устойчивом выражении религиозного характера: «И бодру быти на пhние церковное и на прhданиа отчьскаа и почитаниа книж-наа» (МЛС, 3 об.; ПВЛ, 62). В Московском летописном своде 1479 года отмечается новообразование с суффиксом -ьнь отечьнь: по отечню повелению (МЛС, 36); на столh дhдни и отечни (МЛС, 73 об.); у отечня гроба (МЛС, 141). Многообразие морфологических средств выражения посессивного значения от основы отьць (-j-, -ьн-, -ьск-) предполагает конкуренцию форм, в результате которой происходит вытеснение одних образований другими. При общности грамматического и словообразовательного значения прилагательных, осложненных разными суффиксами, они различаются стилистически. Так, например, в светских памятниках Московского периода архаическая форма отьчь употребляется значительно чаще, чем в памятниках Киевского периода, в которых преоб- ладает стилистически нейтральное образование отьнь.
Образование старьчь от другой основы с суффиксом -ьць – старьць непопулярно в летописных текстах. Оно выступает с лично-притяжательным значением в сочетаниях устойчивого характера, отражая религиозную семантику производящего имени старьць «инок, монах»: « То събывашеся ему по глаголу старчю » (МЛС, 7 об.); « Сбудяшется старче слово » (ПВЛ, 64).
Единичными формами представлены в летописях притяжательные прилагательные с суффиксом -j- от основ существительных с суффиксом -ьникъ . Если существительное на -ьникъ содержит в себе оценку лица по его моральным и нравственным качествам, в грамматическом значении образованного от него прилагательного появляется яркий качественный оттенок. Так, образование гр h шьничь не просто определяет существительное, но и качественно его характеризует. Оно представлено в МЛС в метафорическом контексте религиозного характера: « Не оставить бо господь праведна-го в руку гр h шничю » (МЛС, 113).
Что касается образований от наименований лиц с суффиксом -ьникъ , называющих лицо по занимаемой должности или роду занятий, то в летописных текстах самым популярным является прилагательное посадьничь . Оно выступает с терминами родства в лично-притяжательном значении: посадничь сынъ (НIЛ, 109, 137, 140 об.); брата посад-ничя (МЛС, 168); посаднича сына (МЛС, 229). Во множественном числе оно отмечается и в членной форме: посадничьих детеи (МЛС, 432).
Отдельную группу составляют образования с суффиксом -j- от заимствованных имен существительных, обозначающих лицо по религиозному статусу: патриархъ, архи-епископъ, епископъ, митрополитъ. Эти слова широко распространены в древнерусском языке как общественные термины, а образованные от них прилагательные относятся к числу частотных образований в летописных текстах, что свидетельствует о важной роли представителей церковной элиты в жизни государства. Все стороны жизни находят отражение в синтагмах с адъективами архиепис- копль, митрополичь, патриаршь. Например, посессив митрополичь, широко распространенный в Московских летописях, выступает в сочетаниях с существительными самой разнообразной семантики:
-
- со значением отвлеченного действия: со приезда митроплича (МЛС, 344); по ошествии митрополич h (МЛС, 344 об.);
-
- со значением отвлеченного качества: за митрополичю неправду (МЛС, 96 об.);
-
- с результативным значением: мольбу митрополичю (МЛС, 22 об.); труда митрополича (МЛС, 155);
-
- с темпоральным значением: смерть митрополичю (МЛС, 81);
-
- с конкретным значением: на митропо-личи двор h (МЛС, 252 об.); облечеся в санъ митрополичь (МЛС, 267 об.); пе-реманатку митрополичю (МЛС, 267 об.); ризницу митропличю (МЛС, 268); оброкы и пошлины митрополичи (МЛС, 269);
-
- с личным значением: боляре митропо-личи (МЛС, 268); слуги митрополичи (МЛС, 271); митрополичю послу (МЛС, 308 об.); и др.
Образования с суффиксом -j- от других личных существительных-грецизмов в летописных тестах отмечаются только в составе определенных формул, характеризуются стандартной сочетаемостью. Адъектив патри-аршь выступает в устойчивом словосочетании грамота патриарша (МЛС, 74, 240 об., 262 об. и др.), где грамота – «деловой документ, акт», и только в МЛС. Прилагательные епископль – архиепископль встречаются в МЛС и НIЛ в составе терминов епископль дворъ (НIЛ, 17; МЛС, 37 об., 133, 153 об.), дворъ архиепископль (МЛС, 338 об., 342 об., 397), обозначающих «церковное учреждение, ведающее различными хозяйственными и административными делами», что свидетельствует о широком распространении данного общественного термина в древнерусском языке. Синоним к слову епископль – епископьс-кыи употребляется в МЛС лишь однажды, и также в устойчивом сочетании епископьска-го сану (МЛС, 329 об.).
Прилагательное игумень отмечается лишь однажды: в келью игуменю (МЛС, 92)
в собственно притяжательном значении в сочетании с конкретным существительным.
В данный ряд попадает и прилагательное дьяволь , связанное не с должностной терминологией, а с областью христианской мифологии, идеологии, морали. Оно отмечается преимущественно в составе устойчивых словосочетаний: по зависти дьяволи (ПВЛ, 26 об.); по дьяволю оученью (ПВЛ, 30); от прельсти дьяволя (ПВЛ, 41 об.); от пронырьства дьяволя (ПВЛ, 47 об.); къ дьяволю наоущенью (ПВЛ, 50); от козни дьяволя (ПВЛ, 65 об.); в сеть дьяволю (МЛС, 267 об.); наважениемь дияволимь (НIЛ, 167 об.); от сважения дьяволя (НIЛ, 1 25 об.); дьяволю сов h тнику (МЛС, 276 об.). Прилагательное дьяволь отмечается в синтагмах, субстантивные компоненты которых находятся в основном в синонимических отношениях и являются деверба-тивами с семантикой отвлеченного действия или состояния: зависть , прельсть , про-нырьство – «коварство, лукавство»; наученье , соблаженье , козни , наважение , сва-жение – «козни, клевета, подстрекательство». Объяснение негативных событий в свете христианской идеологии предполагает деятельное участие злого духа. Прилагательное дьявольскыи не отмечается в рассматриваемых летописных сводах и не конкурирует с прилагательным дьяволь .
Таким образом, существительные, мотивированные заимствованными основами, выражают все разновидности того грамматического значения, которое характерно для прилагательных подобного типа. В большинстве случаев образованные от нарицательных имен-грецизмов прилагательные в соответствии с логической природой их лексического значения реализуют значение категориальной принадлежности. Их близость к относительным прилагательным проявляется в том, что часто они имеют в качестве функциональносемантических дублетов прилагательные с суффиксом -ьск- . Однако образования с суффиксом -j- от основ греческого происхождения более частотны и популярны в языке данного периода.
Словообразовательный компонент -ьj-менее популярен, чем -j-. Он обнаруживается по отсутствию йотированности последне- го согласного производящей основы. Наиболее популярным притяжательным прилагательным с суффиксом -ьj- в летописных текстах является прилагательное сакральной семантики божии, которое представлено в летописных текстах в устойчивых синтагмах формульного характера.
Единичными примерами представлены образования с суффиксом -ьj- от существительных женского рода с древней основой на * -ā , например, вьдовии : вдовья беда (МЛС, 303). Популярно в летописных текстах притяжательное прилагательное с компонентом -ьj- от существительного врагъ , которое имело в древнерусском языке два основных значения: военное «враг, недруг, противник» и религиозное «бес, дьявол». Прилагательное вражии отразило оба компонента значения синкретичного имени существительного. В летописных сводах оно употребляется и в значении «неприятельский», и в значении «дьявольский»: « Избуду суетнаго сего св h та и мятежа. с h ти вражии » (ПВЛ, 69 об.); « И смутих от гласа вражиа » (МЛОС, 214); « Или ожесточившися вражьим нав h том » (МЛС, 329 об.).
Таким образом, прилагательные с суффиксом -j-/-ьj- широко распространены в летописных сводах, и чаще всего как стилистически маркированные формы. Будучи маловыразительными в морфологическом отношении, они постепенно вытеснились дублетными образованиями с другими морфемами или заменились родительным приименным. Данный процесс находит отражение в языке летописей, поскольку большинство образований на -j- имеет в них синонимические формы других суффиксальных типов. Адъективы с компонентом -j- от нарицательных существительных с личным значением отличаются дифференцированностью грамматического значения, что отражает логическую двойственность лексического значения производящих существительных, способных выступать как наименования конкретного единичного лица и как наименования собирательного, абстрактного лица. В большинстве случаев они представлены в словосочетаниях терминологического характера, характеризуя определяемые существительные как по субъекту, так и по объекту. Прилагательные, образованные от нарицательных имен, даже выступая в лично-притяжательной функции, всегда имеют качественно-относительные оттенки, поскольку нарицательное имя, в отличие от собственного, в своем лексическом значении всегда содержит указание на признаки, свойства, дающие основания для категориального обобщения. Чем обобщеннее лексическое значение производящего имени, тем более выражен качественно-относительный оттенок грамматического значения произведенного от него прилагательного. Производящими основами для прилагательных на -j-/-ьj- могли быть существительные разных структурных типов: непроизводные образования, образования с суффиксами -ьць, -ьникъ, заимствованные личные имена.
Список литературы Притяжательные прилагательные с суффиксом-j-/-ьj-, мотивированные личными нарицательными существительными, в летописном тексте
- Вольф, Е. М. Грамматика и семантика прилагательного/Е. М. Вольф. -М.: Наука, 1978. -200 с.
- Зверковская, Н. П. Суффиксальное словообразование русских прилагательных ХІ-ХVІІ вв./Н. П. Зверковская. -М.: Наука, 1986. -112 с.
- Кузнецов, А. М. Историческая грамматика древнерусского языка. Т. Прилагательные/А. М. Кузнецов, С. И. Иорданиди, В. Б. Крысько; под общ. ред. В. Б. Крысько. -М.: Азбуковник, 2006. -496 с.
- Ломтев, Т. П. Очерки по историческому синтаксису русского языка/Т. П. Ломтев. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956. -596 с.
- Фролова, С. В. История притяжательно-относительных прилагательных с суффиксом -j-/-ьj по древнерусским письменным памятникам ХІ-ХVІІ вв. С. В. Фролова//Учен. зап. Куйбышевского ГПИ. -Куйбышев, 1959. -Вып. 27. -С. 183-338.
- ПВЛ -Повесть временных лет. Лаврентьевский список летописи. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1926. -496 с. -(Полное собрание русских летописей; т. 1).
- МЛС -Московский летописный свод 1479 года. Уваровский список летописи. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. -464 с. -(Полное собрание русских летописей; т. 25).
- НІЛ -Новгородская первая летопись старшего извода. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. -640 с.