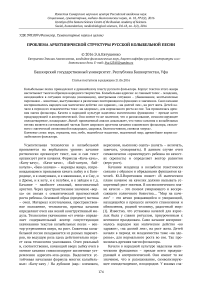Проблема архетипической структуры русской колыбельной песни
Автор: Евтушенко Эмилия Анатольевна
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.
Бесплатный доступ
Колыбельные песни принадлежат к древнейшему пласту русского фольклора. Корпус текстов этого жанра насчитывает тысячи образцов народного творчества. Колыбельная адресна: ее главный топос - младенец, находящийся в ситуации перехода (инициации), центральная ситуация - убаюкивание, неотъемлемые персонажи - животные, выступающие в различных повторяющихся функциях и значениях. Само качание воспринималось народом как магическое действо «во здравие», «на долгий лен», на рост жита. Детей качали в период их младенчества тоже «на здоровье», для нормального роста во сне. Так проявлялась древняя магия фольклора. Качели в народной культуре наделены магическими функциями - прежде всего продуцирующей и апотропеической. Они имеют то же значение, что и размахивание, символизирующее оплодотворение, плодородие. Вывод: проведенный анализ доказывает, что топос качания в колыбельных песнях является составляющей частью более широкого архетипа качания славянского фольклора, связанного с магической символикой плодородия, здоровья, благосостояния, символа «верха».
Верх, середина, низ, небо, поднебесье-надземье, подземный мир, древнейшие корни колыбельного фольклора
Короткий адрес: https://sciup.org/148102428
IDR: 148102428 | УДК: 398:009
Текст научной статьи Проблема архетипической структуры русской колыбельной песни
Усыпительная технология в колыбельной проявляется на вербальном уровне: качание ритмически организует текст, как и сам текст организует ритм качания. Формулы «Качь-качь», «Качу-качу», «Качи-качи», «Бай-качули, бай-качули», «Баю-укачаю» – маркеры жанра, сопровождающиеся призывами качать зыбку и к Богородице, и к мамушкам, и к нянюшкам, и к Сну, и к Дреме, и к коту, и к голубям, и к зайцам и т.д. Качание – наиболее сложный, многозначный архетип. Через пространственное значение «верха» он связан с семантической прогностикой роста ребенка. Основной образ (предмет) мотива – очеп. Материал изготовления, пространственное положение, технология, приемы качания определяют очеп как некий конструктивный модуль. Технология укачивания «от очепа» определяет содержательный вектор сопутствующих укачиванию текстов колыбельных песен – вектор устремления вверх, на рост. Сюжетика колыбельной песни складывается из разных параметров, но ведущую роль здесь действительно играет сама технология укачивания. Очеп реальный и, соответственно, качающий вверх зыбку очеп в мотиве качания символизируют жизненные устремления адресата-мла-денца. Выделяется устойчивая начальная формула многих колыбельных: «Качу-качу / На дубовом (вар.: кленовом, вересовом, высоком) оцепу» (качать – величать, завечать, уговаривать). В данном случае очеп символически «ориентирует» ребенка по качеству (крепость) и определяет вектор развития (верх-рост).
Качание младенца в колыбели генетически связано с образом и обрядовыми функциями качелей. Ю.Л.Воротников пишет: «В магическом плане качание на качелях должно вызывать ускоренный рост посевов. В космологическом плане качели – это символ умирающего и воскресающего солнечного божества… “Мир на качелях” – это вечно рождающийся и умирающий, находящийся в процессе вечного становления и обновления, родной человеку, радостный мир» [1]. Известно, что установка качелей для взрослых была у славян ритуалом, приуроченным к весенним праздникам. Само качание воспринималось народом как магическое действо «во здравие», «на долгий лен», на рост жита. Детей качали в период их младенчества тоже «на здоровье», для нормального роста во сне. Так проявлялась древняя магия фольклора.
Качели в народной культуре наделены магическими функциями – прежде всего продуцирующей и апотропеической. Они имеют то же значение, что и размахивание, символизирующее оплодотворение, плодородие. У южных сла- вян качели устраивались на масленицу или в Юрьев день, у восточных – в день Сорока мучеников и на Пасху. В отличие от других развлечений (хороводы, пение и т.п.), качание на качелях разрешалось во время Великого поста, а затем, прерываясь на период Страстной недели, возобновлялось на Пасху и продолжалось в течение всей Светлой недели. Последним днем, когда могли качаться на качелях, было Петровское заговенье – восьмое воскресенье по Пасхе. Качание на качелях признавалось обязательным для молодежи и воспринималось как магический способ «подвигнуть» девушку или парня к супружеству. У южных славян масленичное качание на качелях предохраняло человека от нападения вештиц и самодив – духов, опасных для людей. Прибегали к качанию на качелях и для защиты от колдовства вообще (для этого на Гомельщине парни на руках качали девушек над купальским костром), от змей, от укусов комаров в летнее время. По верованиям восточных славян, русалки раскачиваются на ветвях деревьев, на качелях, на троицкой зелени, которой украшают дома, и даже на колосьях в поле.
Проведенный анализ доказывает, что топос качания в колыбельных песнях является составляющей частью более широкого архетипа качания славянского фольклора, связанного с магической символикой плодородия, здоровья, благосостояния, символа «верха».
С архетипом качания в колыбельных песнях тесно переплетается архетип Мирового древа – характерный для мифопоэтического сознания образ, воплощающий универсальную концепцию мира («древо жизни», «древо плодородия», «древо центра», «древо восхождения», «небесное древо», «древо познания», «мистическое древо» в мифах и различных жанрах фольклора, литературы, живописи, скульптуры, прикладного искусства; образ распространен в диапазоне от эпохи бронзы до настоящего времени).
Мировое древо является доминантой, определяющей вертикальную организацию бытия. При членении по вертикали символически выделяются нижняя (корни), средняя (ствол) и верхняя (крона) части. В связи с этим дерево, в принципе, содержит целую систему архетипических значений: это символ самой жизни, плодородия природы, смены времен года; основные зоны вселенной (верхняя – небесное царство, средняя – земля, нижняя – подземная, хтоническая область); человек – ноги, туловище, голова; человеческая жизнь в целом (детство, юность, зрелость, старость – генеалогическое древо); начало и конец; волшебные плоды; деревья-помощники и дарители. Троичность Мирового древа по вертикали проявляется и в отнесении к каждой его области особого класса существ (верх – птицы, средняя часть – человек и млекопитающие, нижняя – змеи, лягушки, мыши, пауки). Мировое древо отделяет космос от хаоса, вводя в первый из них порядок, меру, организацию и делая его доступным для выражения в знаковых системах. Особая роль древа в мифопоэтике определяется тем, что оно выступает как посредник между вселенной (макрокосмом) и человеком (микрокосмом) и является местом их пересечения, потому образ Мирового древа обеспечивает целостный взгляд на мир, определение человеком своего места в нем [2].
Концепция Мирового древа позволяет сделать важные выводы о структурной организации колыбельных текстов. В фольклористике сложились основные типы анализа животных образов жанра: дарители, помощники, хранители, предвестники судьбы, вредители или животные, совмещающие несколько действий. По нашему мнению, символический «верх» – крону Мирового древа, небеса – представляют образы птиц: голубь (гули, гулюшки), ворон, грач, кукушка, журавль. Крона – место, где среди ветвей гнездятся птицы и откуда они спускаются к колыбели ребенка. На символическом уровне тело человека материально, привязано к земле; душа же связана с мотивом полета, парения и этим сродни птице. Наиболее показательным для отечественной традиции является голубь: в православной традиции – символ Духа Святого, в славянском фольклоре – птица, связанная с любовью, душой человека. Голуби воркуют, качают колыбель, навевают сон, приносят угощения, задавая символическую вертикаль организации поэтического пространства. Наличие в колыбельных образов птиц, связанных с символикой судьбы и смерти, объяснимо: новорожденный находится на границе между мирами, ему угрожают силы зла, за него борются извечные противники – зло и добро.
В области надземного мира колыбельных, символизируемого в мифологии стволом Мирового древа, находим медведя, волка, соболя, куницу, лису, собаку, кота, козла / козу, корову, курицу. Оппозиция «домашние-дикие» закономерно отражается в поэтике колыбельных. Образы соболя и куницы, как установлено, относятся к сфере брачной символики, магии плодородия (области будущего для ребенка); также с идеей плодородия, благосостояния, богатства связаны образы козла / козы. Медведь – след древнейшего тотемизма, дань уважения к хозяину леса, славянскому божеству. Наиболее сложными и основополагающими для мифопоэтики колыбельных являются образы кота, курицы и волка. Кот – охраняет дитя, качает колыбель, приносит дары, отвечает за сон; собака своим лаем обычно будит ребенка, и «баяльщик» (исполнитель колыбельной) заклинает ее этого не делать. Курица – архетип плодовитости, материнства и – через символику яйца (Мировое яйцо) – начала мира. Волк – типичный дуалистический образ, вечно пересекающий «край», то есть границу двух пространств, двух миров – известного, домашнего, и «другого», чужого, неосвоенного; он уносит ребенка в неосвоенное, враждебное человеку пространство, возможно, в ряде случаев уберегает дитя, магически защищает младенца, находящегося между мирами [3].
Мир хтонический, подземный (корни Мирового древа) менее востребован поэтикой колыбельных, но это не значит, что он не обозначен, не присутствует в структуре жанровых текстов. А.Ф.Лосев в фундаментальном труде «Мифология греков и римлян» (глава «Хтоническая мифо- логия. Анимизм»), рассуждая о развитом анимизме и функциональном хтонизме, делает вывод о том, что земля и ее недра в мифологии трактуются как вообще начало и конец всякой жизни [4]. Сфера хтонического, стихийного представлена в колыбельных песнях русского народа концептами тьмы, темноты и бестиар-ным образом – мышью, с которой связаны многие поверья, легенды, приметы. Под влиянием христианства мышь считали нечистым животным, созданием дьявола. В русских народных сказках встречается мышь-трикстер или, с другой стороны, мышь-по-мощница, исполняющая желания героя. Мотивы хтонического и зооморфизм мыши дополняют, завершают вертикально выстроенную структуру «колыбельного» бытия.
Т аким образом, можно говорить о наличии в колыбельных соответствующей имплицитной структурной модели Мирового древа и архетипи-ки плодородия. Верх, середина, низ; небо, подне-бесье-надземье, подземный мир – одна из доминант жанра, доказывающая древнейшие корни колыбельного фольклора, его глубину и значимость в развитии мифопоэтической мысли.
-
1. Воротников, Ю.Л. Качели как эротический символ // Эрос и логос: феномен сексуальности в современной культуре / сост. В.П.Шестаков. М., Мин-во культуры РФ. Росс. ин-т культуролог. 2003. С. 109–123. С. 133.
-
2. См.: Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. Токарев С.А. М., Сов. энциклопедия,1991. Т. I. С. 398– 406.
-
3. Горбунова, К.А. Сюжет о сером волке в русских колыбельных песнях. http://www.scienceforum.ru/2013/18/5298
-
4. Лосев, Α . Φ . Мифология греков и римлян / составитель А.А.Тахо-Годи; общая редакция А.А.Тахо-Годи и И.И.Маханькова. М., Изд-во «Мысль». 1996. С. 63.
Problem of Archetypic Structure of the Russian Lullaby Song
Emilia A.Yevtushenko, Candidate of Philology, Associate Professor of the Russian Literature and Publishing.
Список литературы Проблема архетипической структуры русской колыбельной песни
- Воротников, Ю.Л. Качели как эротический символ//Эрос и логос: феномен сексуальности в современной культуре/сост. В.П.Шестаков. М., Мин-во культуры РФ. Росс. ин-т культуролог. 2003. С. 109-123. С. 133.
- Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т./гл. ред. Токарев С.А. М., Сов. энциклопедия,1991. Т. I. С. 398-406.
- Горбунова, К.А. Сюжет о сером волке в русских колыбельных песнях. http://www.scienceforum.ru/2013/18/5298
- Лосев, Α.Φ. Мифология греков и римлян/составитель А.А.Тахо-Годи; общая редакция А.А.Тахо-Годи и И.И.Маханькова. М., Изд-во «Мысль». 1996. С. 63.