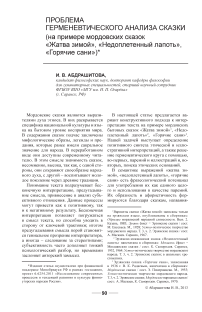Проблема герменевтического анализа сказки (на примере мордовских сказок «Жатва зимой», «Недоплетенный лапоть», «Горячие сани»)
Автор: Абдрашитова Ирина Владимировна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Сокровищница традиционной культуры
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
Предлагается вариант конструктивного подхода к интерпретации текста на примере мордовских бытовых сказок «Жатва зимой», «Недоплетенный лапоть», «Горячие сани», а также решение герменевтического круга с помощью паремий и иллюстраций, с одной стороны, и поиска этических оснований – с другой; подчеркивается позитивный синтез этической и иллюстративной интерпретаций.
Интерпретация, иллюстрация, мордовские бытовые сказки, герменевтический круг, этнос
Короткий адрес: https://sciup.org/14722991
IDR: 14722991
Текст научной статьи Проблема герменевтического анализа сказки (на примере мордовских сказок «Жатва зимой», «Недоплетенный лапоть», «Горячие сани»)
ПРОБЛЕМАГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СКАЗКИ
(на примере мордовских сказок«Жатва зимой», «Недоплетенный лапоть», «Горячие сани»)*
И. В. АБДРАШИТОВА, кандидат философских наук, докторант кафедры философии для гуманитарных специальностей, старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
(г. Саранск, РФ)
Мордовские сказки являются выразителями духа этноса. В них раскрывается специфика национальной культуры и языка на бытовом уровне восприятия мира. В содержании сказок подчас заключены мифологические образы, легенды и предания, которые ранее имели сакральное значение для народа. В переработанном виде они доступны современному читателю. В этом смысле значимость сказок, несомненно, высока, так как, с одной стороны, они сохраняют своеобразие народного духа, с другой – воспитывают молодое поколение через древние традиции.
Понимание текста подразумевает бесконечную интерпретацию, предугадывание смысла, привнесение в анализ субъективного отношения. Данные процессы могут привести как к позитивному, так и к негативному результату. Бесконечная интерпретация позволяет погружаться в смысл текста, но способна уводить в сторону от ключевой трактовки; итогом предугадывания смысла порой становится гениальное прозрение интерпретатора, а иногда – следование за стереотипами; субъективность часто дополняет тонкий психологический разбор, но временами заслоняет авторский замысел.
В настоящей статье предлагается вариант конструктивного подхода к интерпретации текста на примере мордовских бытовых сказок «Жатва зимой»1, «Недо-плетенный лапоть»2, «Горячие сани»3. Нашей задачей выступает определение позитивного синтеза этической и иллюстративной интерпретаций, а также решение герменевтического круга с помощью, во-первых, паремий и иллюстраций и, во-вторых, поиска этических оснований.
В семантике выражений «жатва зимой», «недоплетенный лапоть», «горячие сани» есть фразеологический потенциал для употребления их как единого целого и использования в качестве паремий. Их образность и афористичность формируются благодаря сказкам, названия- ми которых они являются. Пословица как разновидность паремии произошла от басни, т. е. басня «сжалась» так, что осталась одна мораль – своеобразный семантический концентрат. В нашем случае паремии восходят к бытовым сказкам, очень близким к басням, в их названиях зафиксирована соль всего смысла текста. В отличие от пословиц заглавия нельзя понять до конца без восстановления контекста сказки. Однако можно предположить, что смысл выражений, развертываемый в сюжете, оказывается вторичным по отношению к ним. Названия данных сказок выступают в качестве предпони-мания, предчувствования смысла всего произведения, а содержание – расшифровкой целого, отображенного в заглавиях. Наряду с названиями подобную роль выполняют художественные иллюстрации как воплощение образа текста, его стиля. Отметим, что паремии вводят читателя (слушателя) не только в контекст сказок, но и в историко-культурный контекст, вносят в концептуальные структуры элементы образности, оценочности и этнической принадлежности [2].
Рассмотрим содержание сказок. В эрзянской сказке «Жатва зимой» рассказывается о том, как старик, старуха и их дети из-за незначительных причин не убрали вовремя урожай. Когда наступила зима и стало холодно и голодно, они взяли лопаты, серпы, грабли и отправились в поле. Пришли, стали сгребать снег, да все и замерзли.
Эрзянско-мокшанская сказка «Недо-плетенный лапоть» повествует о солдате Иване, который пять лет мучился на царской службе, а вернувшись домой, даже лаптей не нашел. Когда он сплел один лапоть, пришел староста и сказал, чтобы тот отправлялся на войну – царя защищать. Три года воевал Иван, а на четвертый свергли царя, и солдат стал воевать за советскую власть. Часто вспоминал Иван недоплетенный лапоть, ждал, когда возвратится и доплетет его. Вернулся он с орденом Красного Знамени, хотел было лапоть доплести, но его позвали на собрание, на котором выбрали председа- телем сельсовета. Начал Иван заботиться о бедноте, строить школы, колхозом управлять. Как-то он проходил по двору и увидел у амбара недоплетенный лапоть. «Надо бы доплести», – подумал Иван и засмеялся: у него на ногах были хорошие сапоги, а в сундуке лежали новые ботинки для праздника.
Бесконечная интерпретация позволяет погружаться в смысл текста, но способна уводить в сторону от ключевой трактовки; итогом предугадывания смысла порой становится гениальное прозрение интерпретатора, а иногда – следование за стереотипами; субъективность часто дополняет тонкий психологический разбор, но временами заслоняет авторский замысел.
В эрзянской сказке «Горячие сани» рассказывается о старике, ехавшем с возом из села Кочкурова в Турдаки. Он так устал, вспотел, что снял с себя шапку и варежки. Догнавший его барин на тройке очень удивился, что старик в морозный день без шапки. Тот объяснил, что у него горячие сани. Барину тоже захотелось такие, и он выменял своих лошадей вместе с санями на стариковские. Барин даже тулуп свой отдал мужику – решил, что он ему больше не понадобится. Вскоре барин замерз в «горячих санях» старика, и пришлось ему остаток пути до дома бежать.
Содержание сказок «Жатва зимой», «Недоплетенный лапоть», «Горячие сани» связано с окружающей действительностью: барский произвол и эксплуатация монастырями были безграничны, так как с включением мордовского края в состав Русского централизованного государства мордовские земли стали резервом для раздачи помещикам и монастырям, а население – для использования на тяжелой работе. Названные сказки отличает от простых бытовых историй то, что события, происходящие в реаль-
^ Финно – угорский мир. 2013. № 2 ном пространстве с реальными героями, необычны и даже невероятны, а роднит с ними этический компонент: народ рисует помещиков и духовенство ленивыми, злыми, глупыми, нередко выставляет их на посмешище. Для содержания бытовых сказок характерны следующие фабульные ходы: недостойное поведение влечет последующее наказание или нравственный урок, начальная ситуация противопоставляется конечной (например, в начале сказки герой занимает низкое положение, а в конце – высокое, становится начальником, приобретает богатые сани). Благо трактуется как соответствие должному поведению, как награда за труд.
Исходя из нравственного смысла сказок сформулируем этическую интерпретацию названий-паремий:
-
1) «жатва зимой» – несвоевременное вынужденное действие, заведомо обреченное на неуспех; психологическая путаница, при которой усилия по достижению блага напрямую зависят от времени действия. Нравственный аспект таких ситуаций состоит в выполнении долга в условиях обреченности и декаданса, упадка;
-
2) «недоплетенный лапоть» – моральное оправдание бездействия, основанное на соображениях бесполезности и нерентабельности; нравственный упрек, не имеющий под собой утилитарной основы; отказ от возврата к начатому, но незаконченному делу, ничтожному по сравнению с настоящим; нивелирование тех сторон жизни, когда бездействие не может принести негативных последствий;
-
3) «горячие сани» – психологическая ловушка для жадных и завистливых, стремящихся по каким-либо причинам без усилий занять желаемое место, приобрести блага; ошибка в рассуждениях, вызванная тем, что целеполагание имеет заведомо ложную предпосылку; принципиальная онтологическая невозможность использования ситуации на пользу себе.
Необходимо отметить, что названия сказок не дают интерпретатору ускольз- нуть от центрального смысла текста, а сам текст не позволяет свести этическую интерпретацию заглавий к ложной трактовке. Это происходит потому, что названия-паремии как афористичные выражения смысла целого связывают части произведения воедино и предоставляют возможность уловить основное сюжетное противопоставление, заложенное в сказке. Паремии в данном случае подобны иллюстрациям, которые передают смысл текста в образной форме, не дают «расплыться» воображению, подчиняют части текста центральной идее.
Под смыслом применительно к вербальному тексту понимается целостное содержание какого-либо высказывания, не сводимое к семантике составляющих его элементов, а определяющее эту семантику. Поскольку каждое слово как часть высказывания, находясь в его составе, проявляет одно из возможных своих значений, то рождение общего смысла – это процесс выбора необходимого для данного контекста, т. е. для получения искомого смысла целого высказывания, значения. Именно смысл актуализирует в семантической системе слова ту его сторону, которая диктуется сложившейся ситуацией [1].
Иллюстрации, как и паремии, вынесенные в названия сказок, связаны с конденсированным и обобщенным их содержанием. Ведущая тема, выраженная в паремиях, подчиняет себе иллюстрируемые подтемы. Чтобы проиллюстрировать часть повествования, необходимо иметь представление о целом тексте, а чтобы иметь представление о целом, нужно знать его части. Таким образом, иллюстрируемый текст и текст, озаглавленный в афористичной форме, являются приемлемыми для герменевтического анализа, так как они обусловливают «безболезненное вхождение» в герменевтический круг, а также осуществляют так называемые нерефлексивные предпосылки понимания текста. Рисунок выполняет функцию обозначения и удержания семантики. Иллюстрации и сжатый смысл названий-паремий высту- пают предвидением текста, а этический анализ – его структурирующей интерпретацией, которая должна сойтись с удерживающими смысл иллюстративной и фразеологической интерпретациями.
Взаимодействие вербального и икони-ческого (от греч. eikos «образ») текстов обеспечивает целостность анализа и избавляет от случайных интерпретационных трактовок. Иллюстрация не дает сознанию уклоняться от смыслового вектора произведения. Эстетическая и герменевтическая взаимообусловленность слова и его изображения позволяет избежать интерпретационных ошибок, связанных с неверным читательским ожиданием и искажением его под- и контекста. Визуальный образ подвижен, нестатичен, незамкнут, сама иллюстрация может иметь множество прочтений, поэтому иллюстратор не навязывает свое понимание идеи произведения, а, скорее, показывает путь, который расширяет смысловые аспекты текста, скрытые, неявные намеки переводит на визуальный язык восприятия, помогает глубже постичь произведение.
Интерпретация произведения, созданная литературным критиком, не опирающаяся на художественное изображение, порой не может удовлетворить ни автора, ни читателя: текст живет, развивается, имеет незамкнутую структуру, а критик подходит к нему с готовыми шаблонами, которые конечны, схематизированы, действуют по уже сложившимся законам. Конфликт автора и критика – литературного интерпретатора порождает недооценку произведения. Иллюстрация же подсказывает, не убеждая, вскрывает сокровенный смысл, обогащая трактовку произведения. Рисунок дополняет информационное и лингвистическое поле текста и создает необходимый эстетический синтез.
Адекватное привнесение в повествование изобразительного момента делает текст более диалогичным, способным на со-бытие с Другим как интерпретатором его смысловых потенциалов, в резуль- тате чего читатель извлекает смысл не только из знака, но и из собственного опыта. Названия-паремии, в свою очередь, непосредственно обращены к читателю, предвосхищают его понимание, заставляя самостоятельно связывать ранее не сопоставимое еще до прочтения текста.
Сказки, раскрывающие возникновение и развитие ассоциаций, лежащих в основе представлений какого-либо народа о мире, в сжатой форме способны выражаться в паремиях. В этом смысле произведения «Жатва зимой», «Недоплетенный лапоть», «Горячие сани» можно использовать как дополнительный языковой способ этического осмысления фактов человеческого поведения, как отображенных в текстах, так и накопленных жизненной практикой человека. Иллюстрация при этом «схватывает» образ и дает возможность понять произведение как целое, одновременно раскрывая его эстетический и этический аспекты. Она выполняет также функцию образа-индикатора – при использовании буквального, прямого значения слова, образа-тропа – при использовании переносного значения слова, образа-символа – при использовании обобщенного значения слова на базе частных переносных [1]. Отметим, что в иллюстрациях издания, по которому мы анализируем мордовские сказки, применены образ-индикатор и образ-троп. С их помощью через художественный визуальный ряд раскрыт образный, символический и афористичный потенциал текстов.
Список литературы Проблема герменевтического анализа сказки (на примере мордовских сказок «Жатва зимой», «Недоплетенный лапоть», «Горячие сани»)
- Валгина, Н. С. Теория текста/Н. С. Валгина. -М.: Наука, 2003. -280 с.
- Юсупова, З. Когнитивный аспект исследования противопоставления в паремии (на материале французских, английских и русских пословиц и поговорок)//Вестн. Башк. ун-та. -2010. -Т. 15, № 3.