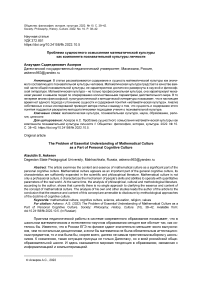Проблема сущностного осмысления математической культуры как компонента познавательной культуры личности
Автор: Аскеров А.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются содержание и сущность математической культуры как значимого составляющего познавательной культуры человека. Математическая культура предстает в качестве важной части общей познавательной культуры, ее характеристики достаточно развернуты в научной и философской литературе. Математическая культура - не только профессиональная культура, она характеризует механизм умений и навыков людей по оперированию количественными параметрами действительного мира. В то же время анализ философской, культурологической и методической литературы показывает, что в настоящее время нет единого подхода к уточнению сущности и содержания понятия «математическая культура». Анализ собственных и иных исследований приводит автора статьи к выводу о том, что сущность и содержание этого понятия поддаются раскрытию методологическими подходами учения о познавательной культуре.
Математическая культура, познавательная культура, наука, образование, религия, ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/149140981
IDR: 149140981 | УДК: 372.851 | DOI: 10.24158/fik.2022.10.5
Текст научной статьи Проблема сущностного осмысления математической культуры как компонента познавательной культуры личности
Ранее нами были проанализированы философские и методологические основы математических понятий в процессе школьного математического образования. На основе экспериментального исследования была разработана методическая система формирования математических понятий, изучаемых в 5–9 классах (работа проводилась с учетом особенностей Дагестана)1. В процессе последующего осмысления концепции формирования у учащихся математических понятий исследование вывело нас на более широкий круг аксиологических проблем, поскольку математические понятия, безусловно, составляют ядро математической культуры. На наш взгляд, ценностная нагруженность математического образования характерна не только в специфических языковых, религиозных, ментальных и других условиях Дагестана.
Сегодня в науке общепризнана человекоразмерность даже естественно-научного знания. Принципы универсального эволюционизма, антропный принцип (в слабой и сильной версии) широко проникли в методологию физики, химии и других наук о природе, в том числе математики. В то же время, несмотря на явное сближение гуманитарного и естественно-научного знания, сегодня на уровне вузовского и школьного образования обществом не сполна осознается ценностное содержание последнего в духовности человека. Общечеловеческие ценности прочно увязываются с гуманитарными и общественными дисциплинами, на которые ложится основная нагрузка мировоззренческого и нравственного воспитания. В последние три десятилетия на основного агента в этом воспитании претендует религия. Хотя, как пишет профессор О. Богданова, «идеология либеральной демократии оказала огромное воздействие на религиозную ситуацию в постсоветской России»; она «является крайне противоречивой», «возникла ситуация религиозного плюрализма» (Богданова, 2021: 36–37), в мусульманских регионах страны прослеживается четкая общественная установка на доминирование ислама в духовной и образовательной среде, что отнюдь не способствовало авторитету фундаментального естественно-научного образования. Кроме того, активно обсуждаемые обществом, чаще всего на дилетантском уровне, вопросы ядерной энергетики, экологии, глобального потепления и нравственной ответственности ученых спровоцировали негативный имидж естественных наук.
Предметом данной статьи является проблема сущностного осмысления математической культуры личности, которая особо актуальна в системе образования, а также в условиях всеобщей информатизации общества. Математическая культура в силу ее всеобщности в образовании недооценима также в условиях, когда необходимо «сформировать общую национальную идею или же идеологию, задать единый культурный объединяющий вектор развития для разрозненных регионов нашей страны», осуществить в нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве меритократический подход к управлению обществом на основе активного взаимодействия творческой элиты с системой образования, культуры и науки (Голышева, 2021: 159).
Математическая культура предстает как значимая часть общей познавательной культуры. Характеристики последней достаточно развернуты в научной и философской литературе. В этой связи обратим внимание на труды известного дагестанского философа М.И. Билалова. В них познавательная культура излагается как часть духовной и интеллектуальной культуры, в которой сосредоточены методы, средства и идеалы познания. При этом речь идет об общей творческой активности субъекта познания, и потому видов и родов познавательной культуры достаточно много. «…Поистине необъятным полем исследования предстают индивидуальный, личностный, семейный, молодежный и другие срезы познавательной культуры, ее теоретический и обыденный, научный и массовый уровни. Своеобразие познавательным культурам придают и временные и пространственные параметры их бытия. Весомым элементом познавательной культуры представляется культура мышления, которая характеризует степень подчиненности мышления как формально логическим правилам или, иначе говоря, логическому мышлению, так и логичному мышлению, учитывающему неформальные, содержательные правила» (Билалов, 2010: 26). Все эти параметры познавательной культуры обусловливают многочисленные разновидности математической культуры.
Разумеется, математическая культура соотносима не со всей, но с научной, теоретической познавательной культурой, хотя имеет широкое хождение в целом во всем образовании. Анализ публикаций отечественных и зарубежных ученых последних нескольких лет позволил выявить различное понимание сущности математической культуры: «одни исследователи рассматривают ее как интегральное образование личности, качество личности; другие – как систему математических знаний, умений и навыков; третьи – как часть общей культуры; четвертые – как аспект профессиональной культуры» (Насыпаная, 2017: 80).
Мы не оспариваем подчеркнутые здесь аспекты математической культуры – все они имеют место быть. Однако в толковании культуры вообще наиболее содержательной частью ее сущности являются механизмы человеческой деятельности. Это не столько знания, сколько способы и средства, умения и навыки их добывания. И даже учитывая то, что большинство исследователей рассматривают математическую культуру учащихся как личностное образование, мы не считаем ведущим аспектом математической культуры выявление возрастных, половых, национальных, религиозных, расовых и других характеристик личности человека. Конечно, мы признаем различные аспекты определений сущности, признаков, компонентов, условий, функций математической культуры. И не только потому, что значим и тот важный факт, что математическая культура в определениях ученых неразрывно связана с математическими знаниями, а также с личностными параметрами человека (Насыпаная, 2017а).
Как показывает наш педагогический и практический опыт, особо значима связь математической культуры с практической деятельностью школьников, их умение переносить полученные математические знания в различные жизненные повседневные ситуации на многие годы (Насыпаная, 2017: 80). Впоследствии у определенной части школьников эта связь может перерасти в содержание творческой и исследовательской деятельности человека, в его способность переносить полученные знания в новые ситуации. Математическая культура, заключая в себе культуру мышления, формирует стремление действовать рационально и творчески, пусть даже формально-логически.
Из выделяемых исследователями основных функций математической культуры мы обращаем внимание на аксиологическую, развивающую, концентрическую и регулирующую (Насыпа-ная, 2017). Поэтому в структуру математической культуры, помимо математических знаний и умений, математического самообразования, математического языка, были включены математические способности, выявление и развитие которых выступает показателем математического образования и которые предопределяют сформированность других элементов.
На основе диалектических категорий единичного, особенного и общего культурными характеристиками наделяются и все человечество, и его часть (континент, народ, нация и т. д.), и индивид. Поэтому следует различать понятия «математическая культура общества» и «математическая культура личности». Следуя этой методологии, В. Снегурова выделяет два уровня в математической культуре общества: собственно математическую культуру общества, включающую в себя все достижения математики как науки, и общую математическую культуру. «Под общей математической культурой… можно понимать минимальную совокупность таких объектов, которые значимы и используются людьми постоянно, каким бы видом деятельности они ни занимались. Тогда математическая культура личности может быть определена как совокупность присвоенных им объектов общей математической культуры»1.
Для понимания и выявления содержательных разновидностей математической культуры в контексте ее взаимосвязи с религиозным сознанием методологически значимы работы М.И. Билалова. Им подчеркнуты и содержательно расписаны, с одной стороны, влияние познавательных и теоретических традиций и способов на становление и современное функционирование исламского вероучения (Билалов, 2011; Билалов, 2016), а с другой – обратное воздействие ислама на познавательную культуру (Билалов, 2012; Билалов, 2017). В этих работах автор конкретизирует первостепенный характер идеи познания, воспитания и обучения в исламе. В источниках ислама – Коране, Сунне Пророка Мухаммада (саллаллаху ‘алейхивасаллям) – многократно упоминается обязательность познания для тех, кто исповедует эту религию. Именно обязательность познания, воспитания и обучения определила особое место образования в мусульманских сообществах.
Конкретизация этих идей для уточнения содержания и сущности математической культуры – задача отдельной статьи. Здесь же обратим внимание на следующее. Закон Российской Федерации «Об образовании» (Статья 14. Общие требования к содержанию образования) гласит, что содержание образования должно обеспечить в сознании учащихся формирование картины мира, адекватной современному уровню знаний и ступени обучения. Там же сказано, что содержание образования должно «...учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений». И все же в современном российском образовании нет идеологически определенной установки государства на формирование мировоззрения. Политика оказалась в плену всевозможных западноевропейских и североатлантических рассуждений о деидеологизации, «конца идеологий» и других подобных иллюзий.
Разумеется, мы должны признать определенную духовную и культурную инерцию материалистически ориентированного советского образования. Однако эта тенденция если и присутствует в учебниках и образовательных программах, то отчасти и неявно. При этом открыто декларируются мировоззренческий плюрализм и этическая толерантность. Четкая мировоззренческая позиция проводится лишь в религиозных образовательных учреждениях.
На наш взгляд, в этой определенности больше пользы, нежели в соблюдении мировоззренческой и идеологической толерантности. Сегодня особенно актуальны слова иранского писателя-теолога Сайида Муджтаба Рукни Мусави Лари: «Жестокость, раздоры, несправедливость, тирания, война – все свидетельствует в пользу истины, что правительств и их законов никогда не было достаточно, чтобы контролировать чувства, верования и ощущения человека, как и для того, чтобы установить строй, основанный на справедливости, счастье, мире и спокойствии в обществе. Наука и знания никогда не смогут разрешить проблемы человеческой жизни, не смогут они помешать и ее крушению, если не будут действовать в союзе с религией» (Лари, 1994: 98).
Таким образом, математическая культура – не только профессиональная культура, она характеризует механизм умений и навыков людей по оперированию количественными параметрами действительного мира. В то же время анализ философской, культурологической и методической литературы, по нашему мнению, показывает, что в настоящее время нет единого подхода к уточнению сущности и содержания понятия «математическая культура». Анализируя собственные и иные исследования по математической культуре, мы приходим к выводу о том, что сущность и понятие математической культуры поддаются раскрытию методологическими подходами учения о познавательной культуре.
Список литературы Проблема сущностного осмысления математической культуры как компонента познавательной культуры личности
- Билалов М.И. Влияние ислама и суфизма на познавательную культуру // Исламоведение. 2012. № 3 (13). С. 23-34.
- Билалов М.И. Гносеологические идеи в религиозном сознании // Вопросы философии. 2011. № 8. С. 177-180.
- Билалов М.И. Дагестан в культуре и цивилизации. Махачкала, 2010. 192 с.
- Билалов М.И. Интеллектуальные истоки внутренних противоречий в исламе // Стратегия и тактика противодействия вызовам экстремизма и терроризма в России на современном этапе: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (18-19 нояб. 2016 г.) / под ред. проф. М.Я. Яхьяева. Махачкала, 2016. С. 14-20.
- Билалов М.И. Религиозное познание в культуре постижения истины // Исламоведение. 2017. Т. 8, № 2 (32). С. 19-27.
- Богданова О.А. Церковно-государственная политика в советский и постсоветский период: сравнительный анализ // Научная мысль Кавказа. 2021. № 1. С. 32-39.
- Голышева И.В. Творческая элита сферы культуры: вклад в реализацию национального проекта // Общество: философия, история, культура. 2021. № 5. С.157-162.
- Лари С.М.Р.М. Западная цивилизация глазами мусульманина. Баку, 1994. 240 с.
- Насыпаная В.А. Математическая культура учащихся: основные характеристики, функции и компоненты // Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). СПб., 2017. С. 42-45.
- Насыпаная В.А. Современное состояние формирования математической культуры и пути ее совершенствования // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2017а. Т. 11, № 1. С. 79-83.