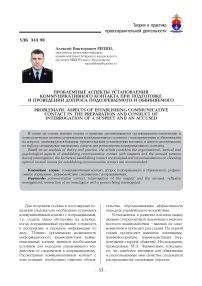Проблемные аспекты установления коммуникативного контакта при подготовке и проведении допроса подозреваемого и обвиняемого
Автор: Репин Алексей Викторович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (40), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе анализа теории и практики рассматриваются организационно-тактические и психологические аспекты установления коммуникативного контакта с подозреваемыми и обвиняемыми на допросе, анализируются барьеры, препятствующие установлению контакта, и даются рекомендации по выбору оптимальных тактических средств для установления коммуникативного контакта.
Коммуникативный контакт, допрос подозреваемого и обвиняемого, рефлексивное управление, взаимодействие следователя с допрашиваемым
Короткий адрес: https://sciup.org/140250098
IDR: 140250098 | УДК: 343.98
Текст научной статьи Проблемные аспекты установления коммуникативного контакта при подготовке и проведении допроса подозреваемого и обвиняемого
Для получения полных и достоверных показаний следователю необходимо установить коммуникативный контакт с допрашиваемым, т.е. создать такую обстановку на допросе, когда допрашиваемый проявляет готовность к восприятию и передаче информации по делу. Помимо организации возможности информационного взаимодействия коммуникативный контакт является необходимым условием для передачи управляющего воздействия от следователя к допрашиваемому. Рассматривая коммуникативный контакт с этих позиций, необходимо отметить обстоя- тельства, обуславливающие эффективность передачи управляющего воздействия.
Установление и развитие контакта между людьми с перспективой дальнейшего межличностного взаимодействия – явление не одномоментное и проходит ряд стадий. На первой стадии происходит взаимное оценивание, взаимовосприятие, взаимоадаптация (перцептивная сторона общения). Исследования, проведенные М.Э. Червяковым, показывают, что наиболее значимые для обвиняемых и распознаваемые ими свойства следователя распределяются следующим образом:
– отношение к людям и допрашиваемому – 18,4%. Согласно результатам аналогичных исследований, проведенных В.П. Бахиным и Н.С. Карповым, на вопрос: «Каково было к Вам отношение со стороны правоохранительных органов в период расследования?» – 21,2% обвиняемых охарактеризовали его как соответствующее предписаниям закона о правах подозреваемого, обвиняемого; 16,3% – как заинтересованное и доброе; 42,5% – как формальное и казенное; 20,0% – как унижающее человеческое достоинство [2, с. 19-20];
– поведение во время допроса – 16,2%. С сожалением следует констатировать, что нередко причиной возникновения конфликтной ситуации на допросе является непрофессиональное поведение самого следователя. А.А. Шаевич отмечает, что в ряде случаев допрашиваемые, «ранее нейтрально или благожелательно настроенные в отношении представителей правоохранительных органов, меняли его на негативное. Чаще всего это было связано с возмущением, вызванным проявлениями (по их мнению) неуважения, невнимания к их словам и превратным толкованием сказанного» [18, с. 46];
– внешность – 12,5%;
– опыт – 9,6%1 [17, с. 18-19].
Значимость указанных свойств следователя для обвиняемых показывает, что немаловажную роль в установлении коммуникативного контакта играют как его профессиональные, так и личностные качества. Следователь своим поведением с самого начала общения должен завоевать авторитет у допрашиваемого, что не означает допущения панибратства, заискивания, установления отношений равенства и т.п., потому что взаимоотношения следователя с подозреваемым (обвиняемым) на допросе – это всегда взаимоотношения между представителем государства и частным лицом. Авторитет достигается «безупречным выполнением следователем всех процессуальных предписаний, определяющих порядок расследования вообще и процедуру допроса в частности. При этом обвиняемому должны быть доходчиво сообщены все необходимые ему сведения, обстоятельно разъяснены его права и значимые для него законодательные нормы, обеспечены законные интересы как самого обвиняемого, так и его близких» [13, с. 67]. Допрашиваемый должен видеть твердость следователя в проведении своей линии, его непреклонность в принципиальных вопросах. В то же время, как справедливо отмечают большинство авторов, следователь должен быть благожелательным, чтобы подозреваемый (обвиняемый) видел в нем не врага, а человека, желающего выяснить все обстоятельства по делу, в том числе и обстоятельства, смягчающие ответственность. Он должен видеть профессионала, для которого допрашиваемый прежде всего живой человек; профессионала, не равнодушного к причинам, приведшим к совершению преступления; человека, способного объективно разобраться в сложившейся ситуации, принимать справедливые решения. При этом проявление указанных качеств должно быть искренним, так как «любая фальшь, довольно быстро подмечается обвиняемым или подозреваемым и может свести на нет все усилия следователя» [9, с. 23], что в конечном итоге приведет к возникновению психологических (смысловых и (или) эмоциональных) барьеров.
Результатом возникновения таких барьеров может быть перенос складывающихся взаимоотношений из области делового общения (следователь – допрашиваемый) в область личностного неприятия (либо в отношении конкретного следователя, либо к правоохранительной системе в целом). Последствием этого может быть уход в себя, формирование установки на противодействие и иные негативные последствия.
От результатов взаимного восприятия зависит наступление и глубина второй стадии общения – взаимной заинтересованности. Здесь следователь на основе рефлексивных рассуждений должен продумать свою тактику вступления в контакт (первые фразы и т.д.). При этом от него требуется крайняя осторожность в высказываниях и контроль за своими эмоциями и поведением. Это объясняется психологическим законом первого и послед- него места, или законом края, согласно которому на допрашиваемого оказывают сильное воздействие и хорошо запоминаются именно первый допрос и последняя встреча со следователем [12, с. 40]. На этой стадии необходимо помнить, что «установление контакта – это прежде всего избежание всего того, что может его нарушить» [4, с. 172]. С.Г. Еремеев отмечает, что чаще всего установлению коммуникативного контакта препятствуют:
– «проблемы межличностного восприятия и идентификации;
– имеющиеся или возникающие конфликты;
– личностно-психологические барьеры и несовместимость» [5, с. 46].
Избежать возникновения барьеров и активизировать психическую активность можно в том случае, если предмет общения актуализирован следователем и эмоционально значим для допрашиваемого. Это позволяет перейти от заинтересованности в общении на более высокий уровень установления контакта – обособление в диаду (заключительная стадия установления контакта), т.е. возникновение готовности к восприятию и передаче информации, что, в свою очередь, создает условия для осуществления управляющего психологического воздействия1. При этом в качестве особенности общения выступает действие защитной (оборонительной) доминанты подозреваемого (обвиняемого), через которую проходит и оценивается вся поступающая информация. Ее действие может выражаться в различных состояниях, от резко возбужденного эмоционально отрицательного (гнев, возмущенность и т.п.) до депрессивно-подавленного (печаль, тоска, уныние и т.п.) [4, с. 171]. В основе таких негативных состояний лежат переживания, связанные с привлечением к уголовной ответственности, информационная неопределенность и другие обстоятельства2, которые так или иначе концентрируются вокруг расследуемого дела и занимают доминирующее положение в мыслительных процессах допрашиваемого. Из-за этого построение подозреваемым (обвиняемым) контактов со следователем также происходит относительно события преступления и связанного с ним расследования.
Исходя из вышеизложенного, представляется спорной точка зрения В.Л. Васильева, который считает, что обособление в диаду в начальной стадии допроса предполагает отыскание общих интересов в целях создания общности «мы», например, «любовь к детям – «мы отцы», любовь к спорту – «мы спортсмены», любовь к живописи – «мы художники» и т.д.» [3, с. 326]3. Это объясняется тем, что допрашиваемый знает свой статус (подозреваемый или обвиняемый), знает, что следователю в первую очередь необходимо не установление с ним общих интересов и увлечений, а его полные и достоверные показания относительно совершенного преступления. Поэтому он ждет именно этих вопросов, так как по ним он может определить степень информированности следователя и, исходя из этого, определиться с собственной линией поведения. Когда же следователь начинает первое общение с допрашиваемым с вопросов, явно не относящихся к обстоятельствам расследуемого дела и направленных на отыскание общностей, у подозреваемого (обвиняемого) может сложиться мнение, что тем самым следователь пытается отвлечь его внимание. Это приводит к недоверию со стороны допрашиваемого, в каждом вопросе следователя он будет искать подтекст, что в конечном итоге усилит эмоциональное напряжение и может пагубно сказаться как на установлении контакта на допросе, так и на характере межлич- ностного взаимодействия по расследуемому делу в целом. Е.И. Замылин отмечает, что «единожды установленный психологический контакт может быть вполне устойчивым и стабильным не только в ходе допроса, но и на протяжении всего расследования по делу. В случае же нарушения достигнутых связей между взаимодействующими сторонами повторное их формирование практически невозможно: потеря доверия, а следовательно, и уважения в глазах противоположной стороны, как правило, не поддаются восстановлению» [7, с. 34].
Отыскание общих интересов (вплоть до установления общности «мы»), как правило, благоприятно сказывается на установлении коммуникативного контакта, если отсутствует противодействие со стороны допрашиваемого. Кроме того, отыскание общностей может благоприятно сказаться и на поддержании контакта, когда у сторон общения уже сформировано представление друг о друге, установлены занимаемые друг другом позиции и т.д., что возможно при производстве последующих допросов или даже по ходу первоначального допроса, но не в начальной его стадии. В любом случае эта беседа должна быть контролируемой и управляемой следователем для того, чтобы использовать ее для решения тактических задач, переведения ее в область делового межличностного взаимодействия и максимального приближения к продуманной ранее рефлексивной модели развития допроса. В.А. Образцов справедливо отмечает, что в противном случае даже в самых идеальных взаимоотношениях между следователем и допрашиваемым, «когда они не переведены в деловое русло, а сведены к ничего не значащему диалогу, к пустопорожней болтовне, богатый потенциал психологического контакта останется невостребованным и нереализованным» [15, с. 28].
Далеко не лучшим образом может сложиться ситуация, когда следователь наоборот начинает форсировать события и общение начинается сразу со сложных прямых вопросов. Г.А. Зорин отмечает, что в подобной ситуации наглядно проявляется закономерность, которая выражается в том, что
«чем сложнее вопрос, тем дальше человек будет отступать от привычных и нормальных поведенческих стереотипов; чем опаснее для допрашиваемого последствия допроса, его тактический проигрыш, тем больше внимания он придает собственным интересам и видит только свое, личное в рассматриваемой ситуации. Объективные обстоятельства им игнорируются» [8, с. 214]. В подобной ситуации передача управляющего воздействия не будет достигать своей цели, так как допрашиваемый ввиду критичного отношения ко всей поступающей от следователя информации не сможет ее адекватно анализировать и принимать соответствующие решения.
Указанные положения подтверждаются результатами проведенного нами опроса следователей и дознавателей1. По их мнению, установление коммуникативного контакта с подозреваемыми (обвиняемыми) наилучшим образом достигается в том случае, когда с самого начала общения к допрашиваемому с их стороны проявляется внимательность. Это выражается в стремлении следователя выяснить наиболее волнующие допрашиваемого вопросы (условия содержания под стражей, жалобы на здоровье и т.д.), а также проявлении осведомленности относительно его образа жизни до совершения преступления с выделением положительных качеств – 35,8% респондентов. Положительное значение детального разъяснения прав допрашиваемого и возможностей их реализации отметили 33,3% опрошенных. Выявление интересующих допрашиваемого тем разговора, предоставление возможности высказать по этим вопросам свою позицию (разговор на отвлеченную тему) используется в 20,7% случаев. Еще 15% респондентов отметили, что для установления коммуникативного контакта используют методы убеждения в несостоятельности занятой допрашиваемым позиции, разъяснение негативных последствий противодействия. Кроме того, следователями и дознавателями отмечались такие способы установления контакта, как:
– обещание способствовать предоставлению свидания с родными, выполнение просьб подозреваемого (обвиняемого);
1 Всего опрошены 69 следователей и дознавателей органов внутренних дел.
- 56 - № 3 (40) • 2020
– принятие позиции допрашиваемого о том, что потерпевший сам спровоцировал совершение преступления;
– сравнение жизненных ситуаций подозреваемого (обвиняемого) с жизненными ситуациями из собственной биографии допрашивающего либо его друзей, знакомых, бывших подследственных;
– предложение допрашиваемому сигарет, чая, кофе для снятия эмоционального напря-жения1.
Подводя итог, отметим, что «отличие профессионального подхода к общению от обыденного заключается, прежде всего, в осознании того, что организация контакта есть работа, труд» [11, с. 18]. Установление и поддержание коммуникативного контакта с подозреваемыми и обвиняемыми на допросе, особенно в ситуации оказания ими противодействия в той или иной форме, существенно отличается от установления и поддержания коммуникативного контакта в иных ситуациях человеческого общения. Ю.В. Трофимова выделяет отличия коммуникативного контакта на допросе от иных сфер общения: по инициатору вступления в контакт, по готовности сторон к вступлению в контакт, по характеру информации, которой оперируют общающиеся, по срокам вступления в контакт и т.д. [16, с. 137-138]. Проводятся серьезные исследования по установлению возможности использования для установления и поддержания коммуникативного контакта данных о типологии акцентуированных типов (гипер-тим, истеройд, шизойд и т.д.) [1, с. 193-194], данных о типе деятельности и поведения (интеллектуально-волевой, интеллектуальноэмоциональный) [10, с. 64-65] и иным немаловажным направлениям, что говорит о важности рассматриваемой проблемы.
Коммуникативный контакт, конечно же, не гарантирует бесконфликтности общения, однако, являясь элементом общения и формируясь на базе одних приемов и правил, создает условия и возможность для реализации других приемов и правил как по отдельности, так и в виде тактических комбинаций. Кроме того, он позволяет определить направление и характер применения тактических приемов и комбинаций, необходимых для осуществления целенаправленного, «дозированного» управляющего воздействия, адекватного личностным особенностям допрашиваемого и ситуации допроса.
1 Допустимость ряда названных способов установления контакта носит дискуссионный характер и заслуживает самостоятельного изучения.
Список литературы Проблемные аспекты установления коммуникативного контакта при подготовке и проведении допроса подозреваемого и обвиняемого
- Ахмедшин, Р.Л. О понятии и видах психологического контакта и тактике его достижения в ходе следственных действий / Р.Л. Ахмедшин // Вестник Томского государственного университета. - 2019. - N 445. - С. 192-196.
- Бахин, В.П. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002 гг.): учебное пособие / В.П. Бахин, Н.С. Карпов. - Киев: Охрана труда, 2002.
- Васильев, В.Л. Юридическая психология: учебник / В.Л. Васильев. - М.: Юридическая литература, 1991.
- Еникеев, М.И. Юридическая психология: учебник / М.И. Еникеев. - М.: НОРМА, 2000.
- Еремеев, С.Г. Отдельные тактико-психологические аспекты производства допроса и очной ставки / С.Г. Еремеев // Научный компонент. - 2019. - N 3. - С. 44-50.
- Жигалова, Г.Г. Психические и физиологические аспекты использования полиграфа при психофизиологической экспертизе / Г.Г. Жигалова, А.А. Рясов // Мир науки, культуры, образования. - 2015. - N 4. - С. 196-198.
- Замылин, Е.И. Проблемы допроса в конфликтной ситуации: учебное пособие / Е.И. Замылин, Н.Ф. Колосов. - Волгоград: ВА МВД России, 2002.
- Зорин, Г.А. Руководство по тактике допроса / Г.А. Зорин. - М.: Юрлитинформ, 2001.
- Карнеева, Л.М. Допрос подозреваемого и обвиняемого / Л.М. Карнеева, А.Б. Соловьев, А.А. Чувилев. - М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1969.
- Кривошеин, И.Т. Теоретические и прикладные проблемы допроса обвиняемого / И.Т. Кривошеин. - Томск: Изд-во Томского университета, 2001.
- Носков В.А. Психотехника общения: учебное пособие / В.А. Носков. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2001.
- Порубов, Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии / Н.И. Порубов. - 3-е изд., перераб. - Мн.: Выш. школа, 1978.
- Ратинов, А.Р. Психология допроса обвиняемого / А.Р. Ратинов, Н.И. Ефимова. - М.: ВНИИ укрепления законности и правопорядка, 1988.
- Скоревич, А.С. Понятие тактики оптимизирующего воздействия / А.С. Скоревич // Сборник материалов криминалистических чтений. - 2019. - N 16. - С. 68-69.
- Следственные действия. Криминалистические рекомендации: типовые образцы документов / под ред. В.А. Образцова. - М.: Юрист, 1999.
- Трофимова Ю.В. Психологический контакт: психологический и юридический подходы / Ю.В. Трофимова // Вестник Барнаульского института МВД России. - 2018. - N 2 (35). - С. 137-139.
- Червяков, М.Э. Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) при расследовании краж личного имущества, грабежей и разбойных нападений: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.Э. Червяков. - М., 2001.
- Шаевич, А.А. О проблемах установления психологического контакта при производстве отдельных следственных действий / А.А. Шаевич // Научный портал МВД России. - 2018. - N 2. - С. 45-51.
- Шахриманьян, И.К. Психологические основы отдельных следственных действий / И.К. Шахриманьян. - М.: Юридическая литература, 1972.