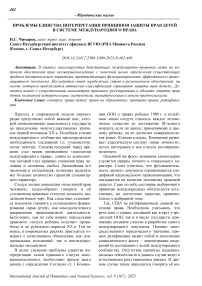Проблемы единства интерпретации принципов защиты прав детей в системе международного права
Автор: Чимаров Н.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются действующие международно-правовые акты по вопросам обеспечения прав несовершеннолетних, с конечной целью определения существующих проблем доктринального характера, препятствующих функционированию эффективного правозащитного механизма. Исследуется опыт зарубежных стран и региональных объединений, на основе которого предлагается авторская классификация «принципов защиты прав детей». Делается вывод о существовании асимметрии правового регулирования в области защиты прав детей, вызванной историческими, системными, тематическими и иными предпосылками.
Оговорка, права детей, право на образование, принципы права, ратификация
Короткий адрес: https://sciup.org/170210916
IDR: 170210916 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-402-406
Текст научной статьи Проблемы единства интерпретации принципов защиты прав детей в системе международного права
Переход к современной модели миропорядка представлял собой важный шаг, которой символизировал нацеленность государств на преодоление межгосударственных кризисов первой половины XX в. Подобные усилия международного сообщества предопределили необходимость следования т.н. гуманистическому вектору. Социокультурный заряд времени стал неким проявлением «идеологии международного права», одним из компонентов которой стал принцип уважения прав человека и основных свобод. Дальнейшая его эволюция и сегментация, позволяет выделять все большее количество гарантий гуманитарного характера.
Следуя логике концепции «поколений прав человека», целесообразно говорить и об усложнении правовых статусов личности, выделении новых черт. Как следствие, становится возможно говорить о полноценном формировании «прав детей», как самодостаточного направления правозащитной деятельности. Безусловно, сам по себе вопрос определения правового статуса ребенка получает проработку и до рубежного периода XX в. Тем не менее, в современных реалиях пригодится говорить о качественном обновлении, как доктринальных положений, так и институциональных механизмов.
В целях уяснения проблемы единства интерпретации основ правового статуса несовершеннолетнего, необходимо прежде всего начать с определения. Согласно ст. 1 Конвен- ции ООН о правах ребенка 1989 г. к подобным лицам следует относить каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Контекстуально, Конвенция развивает классическую систему «прав личности», путем интеграции в нее статуса несовершеннолетнего.
Основной же фокус внимания закономерно уделяется правам личного и социального характера. Стоит отметить, что фундаментальность данного документа ограничивается спецификой национального правопонимания, что сказывается на качестве механизма правовой защиты. Само по себе состояние выборочного принятия международных обязательств естественно, но достаточно серьезно, применительно к выбранной теме.
Так, США не ратифицировали данный источник права. Необходимо учитывать, что речь идет о стране, входящей как в круг учредителей ООН, так и в число государств, принявших активное участие в разработке самого международного документа. Помимо непосредственного юридического значения, процесс ратификации являет собой и исполнение символического жеста – демонстрации намерений по ассоциации с волей международного сообщества. Отсутствие принятых наднациональных обязательств в данном случае ведет к естественным репутационным рискам. В данном случае также приходится говорить об ин- ституциональной дисгармонии. Имеющиеся политические барьеры, безусловно сказываются на эффективности работы правозащитных механизмов. Фактически США, остаются единственным государством-членом ООН, не ратифицировавшим Конвенцию 1989 г. По мнению Харрис Л. подобное обстоятельство может быть связано с прецедентной практикой отказа от ратификации международных обязательств в области обеспечения прав человека. Исторически подобное решение связывается с резонансным для американской политики кризисом правопонимания, известным также как «поправки Брикера» 19531954 гг. [1, p. 20]. Суть предлагаемых правовых норм сводилась к созданию «защитного барьера» для Конституции США от влияния международных идей. Несмотря на избрание иного вектора развития, подобное событие оказало определенное влияние на формирование внутригосударственных ценностей политических партий. Национальное восприятие как довлеющий аргумент признается и в работе Хелмана К.
По мнению специалиста корни того, нужно искать в самой Конституции США, в которой изначально права человека не отождествляются с незыблемыми гарантиями федерального уровня. Так в 2018 г. Федеральным Окружным Судом Мичигана было отклонено заявление учащихся одной из школ в Детройте. В обращении было указано, что у детей нет возможности получить доступ к качественному образованию (literacy). В своем решении судья указал, что признает тяжесть ситуации, однако само право на образование не является фундаментальным правом для США. Оба зарубежных исследователя сходятся во мнении, что принятие Конвенции 1989 г., в реалиях существующего американского федерализма, породит определенные проблемы правореали-зации. Тем не менее, Хелман К. признает возможность сделать этот непростой шаг, с учетом возможности использования механизма оговорок [2, p. 195].
Обращаясь к иным примерам, следует отметить, что Республика Аргентина предлагает иную трактовку того, кого мы можем считать ребенком – от момента зачатия и до 18 лет. Согласно тезисам Ларрандарт Л. данное заявление было сделано в угоду национальным религиозным общинам. Основная же задача – превентивное воздействие на любые споры, связанные с такой непростой темой как искусственное прерывание беременности [3, p. 150-151].
Также страна не соглашается с отдельными положениями, предполагающими организацию международного усыновления, до тех пор, пока не будут разработаны более эффективные предложения, нацеленные на то, чтобы противодействовать торговле детьми. По заявлению Миниерски Н. подобное решение национальных властей Аргентины встретило стену непонимания в европейской научной среде, где наоборот усыновление в различных своих формах воспринималось в сугубо позитивном ключе [3, p. 195].
Небезынтересно также видится заявление, сделанное представителями Республики Кубы, о том, что достижение 18 лет не означает возможности полного осуществления гражданских прав. Впрочем, необходимо учитывать, что современная кубинская правовая система переживает период адаптации, после принятия новой Конституции 2019 г. На сегодняшний день государство в большей степени синхронизировано с положениями международного акта, позволяя себе в т.ч. развитие сферы культурных прав, являющейся традиционно менее разработанной, в сравнении с правами личного и социального характера [4].
Говоря о гарантиях, представляемых детям, необходимо отметить, что Куба представляет особый интерес и по причине самобытной политической ориентированности. Так, кубинской научной мысли известно т.н. «право быть любимым» (el derecho a ser amado) [5, p. 22]. Кроме того, упоминание в Конвенции 1989 г. обязанности государства об организации процесса воспитании ребенка в т.ч. вокруг заботы об окружающей среде, конкретно на территории Кубы приводит к созданию особой методики просвещения под названием «Зеленая карта» (Mapa Verde), объединяющей вокруг себя значительное количество учебных заведений и служащая целью социальной трансформации [6, p. 149].
Озвученные примеры национальной практики безусловно свидетельствуют о наличии достижений в области предоставления гарантий несовершеннолетним. Тем не менее, акцентирование внимание на внутригосударственных практиках, все также обозначает проблему эффективности транснациональных связей по вопросам соблюдения прав ребенка.
Существующие оговорки и заявления государств, в целом создают трудности интерпретации отдельных доктринальных положений. В частности, это касается вопроса о том, что из себя представляют принципы защиты прав детей. С учетом анализа существующих источников международного права определим вероятные подходы.
Во-первых, необходимо отметить существование общих (универсальных) принципов. Непосредственно сама Конвенция 1989 г. следует тезису о первичности принципа уважения прав и свобод человека и определяет положения Устава ООН в качестве идеологического ядра правового регулирования прав несовершеннолетних.
Во-вторых, следует говорить о наличии первичных адресных принципов по обеспечению интересов несовершеннолетних. К примеру, десять статей Декларации прав ребенка 1959 г. предусматривают принципы (гарантии), предполагающие качественное обновление национальных правовых механизмов. Отдельные установления получают свое развитие в самостоятельных документах. Например, Инчхонская декларация 2015 г. ориентирует страны на предоставление обязательного качественного дошкольного образования, что напрямую не предусмотрено ни в Декларации, ни в Конвенции [7]. Аналогичным образом, в данную группу возможно включить: Декларацию о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях 1986 г.; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г.; Декларацию о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 1974 г. Также, принимая во внимание особую историческую значимость актов международного гуманитарного права, список может быть дополнен источниками права Женевы и Гааги.
В-третьих, нельзя не отметить существование специальных принципов, существование которых в большей степени полагается на принятие обязательств. В качестве примеров следует упомянуть отдельные положения Конвенции 1989 г. (ст. 3 – принцип защиты интересов ребенка; ст. 17 – принцип защиты интересов ребенка от вредоносных информационных материалов; ст. 18 – принцип равной ответственности родителей за воспитание). Немаловажное значение для формирования более комплексного и актуального правозащитного механизма играет и Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г.
В-четвертых, следует выделить отдельный блок региональных, локальных и индивидуальных принципов. В отдельных случаях речь идет про подтверждение приверженности международным обязательствам (ст. 18 Африканской Хартии о признании прав матери и ребенка). Но также речь может идти и о существовании неявных расхождений, что обнаруживается даже на уровне определений. Так, Африканская Хартия о правах и благосостоянии ребенка 1990 г. указывает, что ребенок – это человеческое существо в возрасте до 18 лет. Как видно, отсутствует оговорка о диспозитивном подходе. Кроме того, основной концептуальный акцент смешается в пользу принципов не ООН, но Африканского Союза.
Хартия Совета Европы об осуществлении прав детей 1996 г. предлагает уточненное понимание принципа правовой защищенности. Если Декларация ООН признает возможность приглашения адвоката, то Хартия исходит из назначения представителя несовершеннолетнего в более широком смысле этого слова.
Среди локальных актов следует упомянуть концепцию Британского Содружества по обеспечению безопасности детей 20192020 гг. [8].
Также не стоит упускать из ввиду и национальные особенности. В Нидерландах имеет место быть разделение несовершеннолетних по возрастным показателям. Так, дети старше 12 лет могут выступать в суде и давать показания в случае, если суд в этом заинтересован. Что касается детей младше 12 лет, то их мнение имеет еще меньшую значимость при разрешении дела (но в отдельных случаях, на усмотрении судьи и такого заявления может быть достаточно для разрешения дела, о чем прямо указано в ст. 251а Гражданского кодекса Нидерландов) [9].
Несмотря на существующий массив правовых документов, их ориентированность на созидательное начало, стоит признать, что элементы правозащитного механизма не образуют органичную систему. Подобная проблема обусловлена не только тематическим и уровневым соотношением документов, обстоятельствами национального принятия обязательств, но и историческими аспектами, при котором оформление правового статуса ребенка происходило асинхронным образом. Наиболее ярким примером того является восприятие статуса «ребенка», через сравнение различных международных источников. Так, Конвенция 1989 г. исходят из возрастной планки в 18 лет. Напротив, Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. предполагает защиту лишь до 16 лет. Второй документ представляет из себя источник специального типа и безусловно предполагает регулирование не столько с точки зрения аксиологического созидания, сколько преследуя цель создания межинституциональной коммуникации участвующих государств. В условиях отсутствия гармонизации отдельных подходов, подобное регулирование способно привести к проблемам правоприменения и действовать против интересов ребенка. Примечательно, что права личного характера содержатся и в документах права Женевы, отмечающих, что ребенок может приобрести статус комбатанта с 15 лет. Наличие разумных ограничений, предполагающих активное участие скорее совершеннолетних в боевых действиях, нежели детей, в итоге не исключает расширение возможностей государства. Между тем, следует учитывать, что государства по собственной инициативе могут сознательно повысить планку привлечения лиц в качестве комбатантов, что отчасти позволяет нивелировать своеобразные пробелы правового статуса ребенка.
Подводя итог отмеченному, представляется необходимым сформулировать следующий вывод:
В настоящий момент, укоренившаяся правовой базис не позволяет поставить вопрос о переосмыслении статуса ребенка с точки зрения международного подхода. Наиболее перспективной задачей представляется следование пути региональной гармонизации в оправданных объемах, где предоставляемые гарантии несовершеннолетним не будут выступать в качестве основы для конкуренции, но служить целям защиты и гармоничного развития. Реализация подобного предложения, впрочем, находится в определенной зависимости от специфики межгосударственной коммуникации, также переживающей сегодня период адаптации.