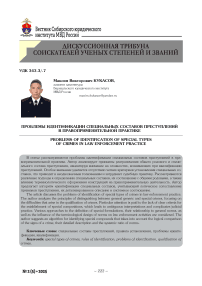Проблемы идентификации специальных составов преступлений в правоприменительной практике
Автор: Кукасов М.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 2 (59), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы идентификации специальных составов преступлений в правоприменительной практике. Автор анализирует принципы разграничения общего родового и специального состава преступления, акцентируя внимание на сложностях, возникающих при квалификации преступлений. Особое внимание уделяется отсутствию четких критериев установления специальных составов, что приводит к неоднозначным толкованиям и затрудняет судебную практику. Рассматриваются различные подходы к определению специальных составов, их соотношение с общими родовыми, а также влияние терминологического оформления конструкций на правоприменительную деятельность. Автор предлагает алгоритм идентификации специальных составов, учитывающий логическое сопоставление признаков преступления, их детализированное описание и системное соотношение.
Специальные составы преступлений, правила установления, проблемы идентификации, квалификация
Короткий адрес: https://sciup.org/140310223
IDR: 140310223 | УДК: 343.3/.7
Текст научной статьи Проблемы идентификации специальных составов преступлений в правоприменительной практике
О дним из ключевых направлений уголовной политики является обеспечение справедливой дифференциации уголовной ответственности [12, c. 188]. Для достижения этой цели законодатель использует различные средства, к примеру квалифицированные и привилегированные составы преступлений [15, c. 32]. Учитывая, что указанные составы предназначены для установления иной наказуемости преступлений в специальных обстоятельствах, влияющих на изменение типовой степени общественной опасности, обоснованно именовать указанные составы специальными. В процессе квалификации правоприменительные органы, руководствуясь принципом lex specialis derogat generali, обязаны отдавать приоритет специальной норме. Для терминологического единообразия обоснованно сделать вывод о том, что в общей норме содержится общий родовой состав преступления, а в специальной норме – специальный состав.
Разграничение общего родового и специального составов преступлений играет важную роль в процессе квалификации деяний. Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ специальная норма имеет приоритет перед общей, однако на практике возникают сложности при отнесении составов к специальным. Проблема усугубляется отсутствием четких критериев для их идентификации, что приводит к неоднозначным толкованиям и затрудняет правоприменительную деятельность.
При анализе Особенной части УК РФ следует определить следующие варианты местоположения специальных составов относительно общих родовых:
общий родовой состав и специальный состав находятся в пределах одной статьи (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ);
общий родовой и специальный состав размещаются в отдельных статьях Особенной части УК РФ (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ст. 106 УК РФ).
Основываясь на руководящих постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и сложившихся традициях правоприменительные органы без особых трудностей идентифицируют соотношение общего родового (в ч. 1 статьи Особенной части УК РФ) и специ- ального (в чч. 2, 3 и последующих) состава и принимают решение о квалификации деяния по последнему.
В случае если указанные конструкции содержатся в отдельных статьях, «маркером» соотношения их как общего родового и специального может служить идентичный родовой термин, с помощью которого описывается деяние, к примеру «убийство» в ст. 105-108 УК РФ, «мошенничество» в ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ.
Наиболее затруднительно установить соотношение конструкций как общего родового и специального составов преступления, если они не содержат объединяющего родового термина и расположены в отдельных статьях, а зачастую и в различных главах Особенной части УК РФ.
Принимая во внимание, что общественно опасные деяния могут посягать на множество сфер жизнедеятельности, некоторые составы преступлений, которые изначально не подразумевались законодателем как общие родовые и специальные, исходя из круга охватываемых деяний, вступили в такое соотношение. Так, к примеру при формировании ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» и ст. 293 УК РФ «Халатность», вероятно, не могло возникнуть мысли о том, что данные составы соотносятся как общий родовой и специальный, так как они содержат различные обязательные признаки объекта, объективной стороны и субъекта. Однако в случае если субъект, обладающий признаками из примечания 1 к ст. 285 УК РФ, нарушит требования промышленной безопасности производственных объектов, что по неосторожности приведет к смерти человека, возникнет вопрос о конкуренции указанных составов. Основываясь на понимании специального состава как совокупности признаков общего родового состава и дополнительного признака, отражающего изменение типовой степени общественной опасности, в данном случае затруднительно установить соответствие указанных конструкций данным критериям.
Аналогичные проблемы при установлении общего родового и специальных соста- вов могут возникнуть в обширном перечне ситуаций. Отсутствие определенных правил и критериев установления данных конструкций влечет противоречия в правоприменительной практике, которая характеризуется неверной квалификацией, что, в свою очередь, влечет назначение несоразмерного наказания лицам, совершившим преступления.
Среди «проблемных» групп общих родовых и специальных составов особое место занимают хищения. Так, в теории уголовного права одна из наиболее оживленных дискуссий сложилась вокруг соотношения понятий «разбой» и «хищение». Одни ученые считают, что разбой является одним из видов хищений [6, c. 272; 14, c. 122], другие – что конструкция разбоя не позволяет отнести его к хищениям [5, c. 217; 8, c. 160; 9, c. 6; 11, c. 76; 13, с. 55, 145].
В контексте установления специальных составов данная проблема особенно актуальна ввиду того, что в ст. 162 УК РФ деяние описывается как «нападение с целью», в ст. 164 УК РФ используется формулировка «хищение предметов … независимо от способа хищения», а в п. «б». ч. 3 ст. 221 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ – «хищение с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».
В ст. 227 УК РФ содержится сходная разбою формулировка «нападение в целях завладения чужим имущество, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения». В ст. 356.1 УК РФ появляется новый термин «мародерство», который определяется законодателем схожим образом с хищением, однако в отличие от вышеуказанных составов в ст. 356.1 УК РФ содержатся квалифицирующие признаки «с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», а также «соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», исходя из чего возникает еще большее количество вопросов по поводу отнесения упомянутых составов к специальным.
При конструировании данных составов было нарушено правило единообразного формирования квалифицирующих при- знаков, помимо этого следует указать, что момент окончания преступного деяния в ст. 162 и 227 УК РФ перенесен на более ранний момент, что может служить аргументов в пользу разнородности данных преступлений.
В анализируемых конструкциях содержатся следующие термины, описывающие деяние:
– хищение (ст. 158, 159, 160, 161, 164, 221, 226, 229 УК РФ);
– нападение с целью (ст. 162, 227 УК РФ);
– мародерство (ст. 356.1 УК РФ).
В доктрине существует мнение о том, что ввиду текстуального различия, а также несовпадения объекта и объективной стороны, указанные составы не являются средством дифференциации уголовной ответственности [1, c. 98], однако представляется обоснованным, что, несмотря на терминологическое разнообразие в указанных статьях, в данном случае следует руководствоваться логическим способом соотношения содержания признаков данных составов. Обоснованно заметить, что, несмотря на терминологическое разнообразие, все упомянутые составы предусматривают противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества в пользу виновного с корыстной целью, причинившее ущерб потерпевшему в различных обстоятельствах. Так, в специальных составах содержатся дополнительные уточняющие признаки по отношению к общим родовым, а именно предмет (ст. 164, 221, 226, 229 УК РФ), обстановка (227, 356.1 УК РФ), исходя из чего очевиден вывод о необходимости квалификации по указанным составам [4, c. 76-78].
Наиболее обширный перечень специальный составов, различающихся терминологическим оформлением с общими родовыми, содержится в главах 30, 31 УК РФ. Принимая во внимание то, что преступления, посягающие на правосудие, одновременно затрагивают отношения в сфере деятельности государственной власти ввиду того, что субъектами таких деяний зачастую являются одни и те же лица, данные составы нередко вступают в конкуренцию как общие родовые и специальные составы преступлений. Основываясь на содержании признаков, обоснованно установить, что в ст. 299-305 УК РФ предусмотрены одни из форм злоупотребления и превышения должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ). Указанный тезис поддерживается как отдельными учеными [2, c. 100-101; 3, c. 24; 10, с. 625-626], так и судебной практикой1, однако ввиду различного текстуального оформления, а также наличия в ст. 285, 286 УК РФ квалифицирующих признаков, отсутствующих в ст. 299-305 УК РФ, возникают различные проблемы при идентификации специальных составов.
Так, к примеру, ст. 304 УК РФ «Провокация взятки…» не содержит квалифицирующий признак «тяжких последствий», вследствие чего указанное деяние, повлекшее тяжкие последствия, одни суды квалифицируют по составу, содержащему обязательный признак общественно опасных последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), другие – по составу без упомянутого признака (ст. 304 УК РФ), а ввиду того, что в санкции ст. 304 УК РФ предусмотрено менее строгое наказание, в отличие от ч. 3 ст. 286 УК РФ, существует мнение о необходимости квалификации указанных преступлений по совокупности.
В данной ситуации процесс установления специального состава осложняют два недостатка уголовно-правового закона:
в статье, предусматривающей провокацию взятки (ст. 304 УК РФ), не осуществлена дифференциация с помощью квалифицирующих признаков аналогично статье, содержащей общий родовой состав (ст. 286 УК РФ). Вследствие данного нарушения единообразной архитектоники нормы возникает парадоксальная ситуация, при которой в специальном составе детальнее описывается деяние, а в общем родовом точнее указаны преступные последствия;
ввиду отсутствия системной пенализации общего родового и специального состава, которая должна отражать соразмерное повышение типовой общественной опасности преступления, в специальной норме предусмотрено
-
1 Апелляционное определение СК по уголовным
31.10.2019 по делу N 22-1786/2019 / СПС «Гарант».
-
2 Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.2018 N 1404-О; О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 N 14, п. 15 // СПС «КонсультантПлюс».
менее строгое наказание, из чего следует вывод, что состав, содержащийся в указанной норме, является привилегированным.
Несмотря на указанные недостатки, представляется обоснованным, что именно такой признак объективной стороны преступления, как деяние, является главным фактором установления специального состава. Данный вывод основывается на том, что в диспозиции статьи Особенной части УК РФ зачастую описывается именно деяние, а не иные признаки состава преступления, исходя из чего следует заключить, что состав, в котором детальнее описано деяние, является специальным, несмотря на иные признаки и санкцию нормы.
Общеизвестен факт того, что состав преступления является единственным основанием уголовной ответственности, исходя из чего с помощью указанной конструкции происходит квалификация преступного деяния [7, c. 156-157]. Наказание, предусмотренное в санкции нормы Особенной части УК РФ, служит ориентиром для судьи, рассматривающего уголовное дело, для назначения им мер уголовной ответственности в рамках, определенных законодателем. Несмотря на это в теории уголовного права и правоприменительной деятельности сложилась практика квалификации преступных деяний, ориентируясь на санкции норм, предусматривающих общий родовой и специальный состав. Так, согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ специальный состав обладает приоритетом над общим; руководствуясь ч. 2 ст. 6 УК РФ очевиден факт о недопустимости «двойной ответственности». Несмотря на наличие указанных требований, в случае если санкция специальной нормы содержит тождественное или менее строгое наказание в отличие от общей, судебные органы отказываются от соблюдения принципа законности и справедливости в пользу принципа целесообразности2. Основываясь о том, что при установлении менее строгой санкции делам Верховного Суда Удмуртской Республики от в специальном составе законодателем была допущена ошибка, некоторые суды считают целесообразным «закрыть глаза» на наличие специального состава и квалифицировать такие преступления по общему родовому составу или по совокупности1.
Представляется, что практика самостоятельной трактовки целей законодателя исходя из рамок наказаний, установленных в санкции Особенной части УК РФ, является порочной. Процесс установления специального состава в уголовном законе должен основываться только на анализе соотношения признаков состава, в свою очередь, разница в санкции общего родового и специального состава преступления может свидетельствовать только о классификационной разновидности данной конструкции (привилегированной или квалифицированной).
Таким образом следует сделать вывод, что процесс установления специального состава в уголовном законе может осуществляться согласно следующему алгоритму:
– при конкуренции составов в пределах одной статьи следует руководствоваться тем, что в ч. 1 содержится общий родовой состав, а в чч. 2, 3 и последующих – специальные;
– в случае если составы содержат объединяющие родовые термины, описывающие деяние, следует произвести логическое сопоставление признаков. Состав преступления, который детализирует другой посредством дополнения уточняющим признаком, является специальным;
– состав, не содержащий объединяющих родовых терминов, однако исходя из логического сопоставления признаков детализирует его определенные обстоятельства, но в то же время расширяет содержание других признаков, является специальным, в случае если содержит более точное описание деяния.
Дополнительно следует отметить, что существенное значение в процессе идентификации специальных составов преступлений имеет не только анализ диспозиции норм, но и учет правоприменительной практики на уровне высших судебных инстанций, в том числе Пленума Верховного Суда РФ. В ряде случаев законодателю при создании правовых конструкций не удается в полной мере предугадать все возможные варианты фактических обстоятельств, в которых будет применяться та или иная норма. Соответственно, уже на стадии судебного разбирательства выявляется необходимость в расширенном или, напротив, более суженном толковании признаков состава, что порождает неоднозначность и затрудняет определение приоритета специальной или общей нормы.
Кроме того, следует учитывать динамику развития правовой системы и социальной реальности. Появление новых технологий, изменения в сфере экономики и оборота объектов гражданских прав могут привести к возникновению качественно новых вариантов преступных посягательств, не вписывающихся в традиционные рамки общего родового и специального состава. В подобных ситуациях суды, сталкиваясь с пробелами в законодательстве, вынуждены прибегать к аналогии по близким нормам или расширительно толковать уже имеющиеся положения, что в конечном итоге создает неопределенность в выборе общего родового либо специального состава.
Таким образом, вопрос о необходимости унификации и корректировки понятийного аппарата в уголовном законодательстве становится особенно актуальным. В данном контексте особое значение приобретает своевременная реакция законодателя на судебную практику. Формирование обобщений Верховным Судом РФ по вопросам квалификации, в том числе с использованием обзоров и мотивированных разъяснений, позволит снять часть спорных вопросов. Однако наиболее эффективным представляется включение в УК РФ четких разграничительных критериев, а также введение единых алгоритмов для ситуаций, когда признаки составов и рамки наказания в санкции совпадают либо противоречат друг другу.