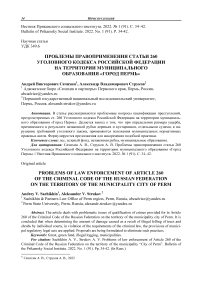Проблемы правоприменения статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Пермь»
Автор: Сачихин А. В., Струков А. В.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 1 (91), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Пермь». Делается вывод о том, что при определении размера ущерба, причиненного в результате незаконной рубки деревьев и кустарников, отдельными судами, в нарушение требований уголовного закона, применяются положения муниципальных нормативных правовых актов. Формулируются предложения для искоренения подобной практики.
Лес, зеленый фонд, незаконная рубка, муниципальные образования
Короткий адрес: https://sciup.org/14126435
IDR: 14126435 | УДК: 349.6
Текст научной статьи Проблемы правоприменения статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Пермь»
-
© Сачихин А. В., Струков А. В., 2022
Будет неправильным утверждать, что проблема квалификации преступных проявлений в области незаконной рубки лесных насаждений и приравненных к ним объектов растительного происхождения не является предметом научных интересов и практического правоприменения.
В качестве примера можно привести судебные акты высших судов, в частности постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июня 2015 года № 12-П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации “Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства” в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “За-полярнефть”» или непосредственно посвященное данной проблеме Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 года № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», а также конкретные научные исследования в сфере разрешения обозначенной проблемы [1, с. 3–9].
Однако следует заметить, что общее направление научных исследований и практических разработок, касающихся данного вопроса, в основном сводится лишь к анализу недостатков понятийного аппарата, обусловленных бланкетным характером содержания диспозиции ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а также к необходимости ее отграничения от смежных преступных деяний и иных незаконных проявлений [2], при этом совершенно не затрагивается одно из немаловажных аспектов ее правоприменения, от которого, по нашему мнению, напрямую зависит состояние складывающейся судебной практики по делам данной категории, в случае если непосредственным предметом преступного посягательства выступают «отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы»1, расположенные в пределах городских муниципальных образований.
Практическая сложность в данном случае заключается в том, что часть перечисленных в диспозиции ст. 260 УК РФ объектов незаконной рубки понятийно регулируется лесным законодательством, а другая часть позволяет отнести ее к предмету регулирования законодательством о местном самоуправлении, что, по нашему мнению, служит одним из объяснений судебных перекосов, возникающих в ходе применения данной нормы судами города Перми, на которых мы остановимся позднее.
Безусловно, никто не намерен отрицать, что наибольшую общественную опасность в современных условиях и реалиях российского лесопромышленного криминального бизнеса представляет собой незаконная непосредственная рубка лесных насаждений, которая чаще всего ориентирована на контрабандный вывоз нелегально заготовленного леса.
В то же время, по мнению авторов, не следует забывать, что в пределах городских муниципальных образований основные криминальные проявления, квалифицируемые по ст. 260 УК РФ, сводятся в большей степени к незаконной рубке либо повреждению до степени прекращения роста чаще всего не лесных насаждений, а не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, совершенным в значительном, крупном или особо крупном размере. Причем указанные действия довольно редко сопровождаются другими квалифицирующими признаками, приведенными в различных частях диспозиции анализируемой уголовно-правовой нормы.
С учетом практического опыта авторов освещаемая проблема конкретно выражается в немотивированных логических подходах, складывающихся в следственно-судебной
практике на территории муниципального образования «Город Пермь» Пермского края, при разграничении преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ, и административных правонарушений в сфере лесопользования, вытекающих из понятийно-ошибочного определения размера причиненного указанными действиями ущерба.
Как правильно отмечают Е. Л. Минина и Ю. И. Шуплецова, «современное российское лесное законодательство не содержит четких критериев, позволяющих определить, какие насаждения (или совокупность растений) являются лесом либо какие территории могут быть признаны лесом, а также какие правовые последствия это может за собой повлечь» [3].
Несмотря на то что их идея относится к объяснению причин целого круга затруднений, непосредственно возникающих в борьбе правоприменителей с теневым лесопромышленным бизнесом, мы в первую очередь расцениваем ее в качестве наиболее логичного объяснения сложившейся на территории города Перми заведомо ошибочной практики, сформированной судами общей юрисдикции по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 260 УК РФ.
По мнению авторов, отсутствие конкретно выраженной терминологической характеристики понятия каждого из природно-экологических объектов, используемых в диспозиции указанной нормы, объективно приводит к необходимости обращения к узкоспециальным правовым источникам, определяющим особенности их юридического положения. В то же время каждый из этих источников в отношении конкретного объекта правовой защиты использует собственный комплекс отраслевых методов регулирования и включаемых для этого полномочий различных властно-публичных образований, что становится одной из причин допущения возможности применения в уголовном праве терминов как лесного, так и экологического законодательства, а также одновременно и законодательства о местном самоуправлении.
В частности, содержание термина «лесные насаждения», без всякого сомнения, в качестве отсылочной нормы понятийно регулируется лесным законодательством, в то время как содержание остальных перечисленных в ст. 260 УК РФ после сочинительного союза «или» предметов преступного посягательства, а именно «не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан»1, позволяет отнести их к предмету регулирования законодательства о местном самоуправлении.
Причем оба блока терминологических характеристик непосредственных предметов преступного посягательства, предусмотренных ст. 260 УК РФ, по объекту регулирования относятся скорее к нормам экологического права.
Полагаем, что один из источников обозначенной нами проблемы лежит в отсутствии самостоятельного правового содержания таких понятий, как «городские леса» (отнесены лесным законодательством к категории защитных лесов) и «леса, расположенные на землях населенных пунктов», вследствие чего в уголовно-правовом применении возникает постепенная трансформация содержания понятий, регулируемых первоначально исключительно профильным лесным законодательством, в категории, для регулирования которых используются правовые механизмы, характеризующие иные экологические объекты защиты.
В частности к последним, с точки зрения законодательства о местном самоуправлении, можно отнести любые территории, покрытые растительностью, то есть на первое место в регулировании становится земельный участок, и, как результат, приоритет при этом предоставлен правообладателям покрытых растительностью территорий (преимущество территориального принципа). Причем понятие «растительный мир» как природная совокупность различных растений является более широким понятием, чем «лес» [3].
Собственно, с этого понятия, установленного ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ1, на территории муниципального образования «Город Пермь» в области практического уголовного правоприменения начинается широкое использование нормативных актов, нацеленных на установление полномочий публично-властного образования местного уровня по обеспечению охраны зеленого фонда городских и сельских населенных пунктов в целях его развития, нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
Во-первых, потому, что ст. 61 указанного закона в качестве самостоятельных объектов экологической охраны ввела понятие зеленого фонда как совокупности территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, а во-вторых, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131) в качестве базового также используется исключительно территориальный принцип организации полномочий публичной власти.
Так, согласно пп. 19 п. 1 ст. 14 ФЗ № 131 утверждение правил благоустройства территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, наряду с организацией использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, отнесены к вопросам местного значения городского, сельского поселения.
Более того, пп. 5 п. 2 ст. 45.1. ФЗ № 131 непосредственно относит организацию озеленения территории муниципального образования, включая порядок восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов территорий, занятых травянистыми растениями, к вопросам, которые подлежат регулированию в правилах благоустройства территории муниципального образования и утверждаются представительным органом соответствующего муниципального образования2.
Еще одним шагом в этом направлении является принятый Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству приказ от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»3 (далее Правила). Несмотря на то что Правила носят лишь рекомендательный характер и приняты в целях упорядочения регламентации основных вопросов ведения зеленого хозяйства, они еще более тесно связали в единый объект правового регулирования данные разнородные понятия, относящиеся по сути к различным отраслям права.
А именно, зеленый фонд города, согласно п. 1.1.1. Правил, определяется как составная часть природного комплекса города и включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов, образующие систему городского озеленения в пределах городской черты, а также озелененные территории, лесные территории за пределами городской черты, если эти территории решениями федеральных органов управления или органов управления субъектов Федерации переданы в ведение местного городского самоуправления для экологической защиты и организации рекреации городского населения.
Помимо изложенного, содержащиеся в Правилах рекомендации касаются не только непосредственно содержания понятий охраны насаждений озелененных территорий, которая представляет собой систему административно-правовых, организационно- хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций, но и предлагают устанавливать запрет на их самовольную вырубку и посадку деревьев и кустарников с его взысканием нанесенного ущерба в соответствии с действующим порядком.
Несмотря на то что под действующим порядком Правила понимают исключительно лесное законодательство, указанный вывод из их содержания категорично не вытекает, что лишь усиливает потенциальную возможность появления муниципальных правовых актов, устанавливающих такую ответственность за самовольную рубку деревьев и кустарников в пределах территории городского муниципального образования по иным критериям и основаниям, отличающимся от требований лесного законодательства.
На подобную двойственность понятия «лес» в сложившейся правовой практике, как уже было указано выше, обратил внимание Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 2 июня 2015 года № 12-П.
Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул необходимость обязательного отграничения оснований возникновения ответственности исключительно с точки зрения приоритета следующих превалирующих факторов: экологического, при котором лес рассматривается как экосистема и основным направлением экологической ответственности становится определение расходов на восстановление всех компонентов экосистемы на поврежденном участке, а также как экономической категории, если речь идет о лесе как природном ресурсе.
В последнем случае в причиненный ущерб «включается стоимость утраченных компонентов, что характерно для компенсаторной функции, выполняемой гражданским зако-нодательством»1.
Конституционный Суд Российской Федерации фактически распределил целевое содержание принципов формирования деликтной ответственности, относящейся к любым элементам, охватываемым понятиями как леса, так и лесных (озелененных) территорий, с точки зрения исключительно стоимостных показателей, подчеркнув при этом, что «при регулировании отношений по возмещению вреда, причиненного лесам, в том числе при определении его объемов (структуры), необходим учет свойств леса и как природного ресурса, и как экологической системы, а при оценке причиненного вреда – учет всех негативных последствий, возникших в результате правонарушения»2.
Указанное обстоятельство означает, что в целях определения размера ущерба, причиненного незаконной рубкой (повреждением до степени роста) лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан в составе административного правонарушения или уголовно-правового деяния вне зависимости от места их произрастания подлежат применению содержащие стоимостные показатели нормы федерального лесного законодательства, а не отражающие иные оценочные критерии муниципальные правовые нормы, построенные на логике необходимости устранения подобными действиями всех негативных последствий в результате совершенных правонарушений.
Такой вывод прямо следует из содержания п. 2 Постановления Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», в котором записано: «Установить, что ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам в результате преступлений, предусмотренных ст. 260 и 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, исчисляется в соответствии с таксами и методикой, предусмотренными особенностями возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденными настоящим постановлением»1.
Между тем с 2014 года по настоящее время на территории города Перми складывается незаконная судебная практика использования при расчете причиненного такими действиями ущерба сначала решения Пермской городской думы от 26 августа 2014 года № 155 «Об утверждении Порядка сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми» и принятого в развитие его положений постановления администрации города Перми от 26 февраля 2015 года № 101 «Об утверждении Порядка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на территории г. Перми»2.
Так, например, по одному из дел, рассмотренных Орджоникидзевским районным судом города Перми 9 января 2018 года, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ был осужден К., который, не имея специального разрешения, совершил незаконную рубку четырех деревьев породы «береза», расположенных между садовыми участками. Расчет ущерба на общую сумму 343 768 рублей 81 копейка был произведен представителем потерпевшего – Управления по экологии и природопользованию администрации города Перми в соответствии с указанными выше Решением Пермской городской думы «Об утверждении Порядка сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми» и Постановлением администрации города Перми «Об утверждении Порядка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на территории города Перми». При расчете ущерба была учтена ставка платы за единицу объема зеленых насаждений, а для исчисления размера восстановительной стоимости зеленых насаждений учтены затраты, связанные с выращиванием их до возраста уничтоженных или поврежденных3.
Согласно другому приговору, вынесенному тем же судом, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ, признан виновным Н., который осуществил незаконную рубку деревьев при схожих обстоятельствах. Как и в предыдущем случае, суд установил размер ущерба исключительно на основании расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на территории города Перми, регламентированного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления4.
Оба приговора сторонами не обжаловались и вступили в силу.
Приведенные примеры не являются единичными, в чем можно убедиться, обратившись к официальному сайту Орджоникидзевского районного суда города Перми.
Может сложиться впечатление, что такого рода правовые пороки присущи только лишь одному из судов города Перми, но это не так. Еще один пример можно привести из практики Дзержинского районного суда города Перми, который только после завершения прений возвратил прокурору уголовное дело в отношении З., преданного суду также по ч. 3 ст. 260 УК РФ за рубку клена американского, вообще являющегося сорным растением. Прокурор выразил свое несогласие с вынесенным судебным актом, и лишь апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам Пермского краевого суда от 15.09.2020 по делу № 22-5206/2020 в вопросе незаконного применения в деле муниципального правового акта была поставлена точка1.
Анализ этих и ряда других приговоров, а также постановлений показывает, что судами, при очевидной пассивности защиты и ложной уверенности стороны обвинения, допускается грубейшая ошибка при определении размера ущерба, причиненного незаконной рубкой не отнесенной к лесным насаждениям древесно-кустарной растительности, которая заключается в отождествлении его с восстановительной стоимостью зеленых насаждений, определяемой органами местного самоуправления, под которой понимаются затраты, связанные с выращиванием срубленных деревьев до возраста уничтоженных или поврежденных.
Таким образом, в целях расчета ущерба, причиненного незаконной рубкой деревьев и кустарников в пределах территории города Перми, зачастую применяются не таксы и методика, установленные постановлением Правительства РФ, как того требует примечание к ст. 260 УК РФ, а акты органов местного самоуправления, устанавливающие расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных на территории муниципального образования «Город Пермь». При этом восстановительная стоимость рассчитывается по формуле, включающей: стоимость посадки одного саженца, подготовки посадочных мест, непосредственной посадки деревьев и кустарников, ухода за ними, стоимость посадочного материала, а также различные повышающие коэффициенты. Очевидно, что ничего общего такой порядок с размером ущерба в смысле, придаваемом ему примечанием к ст. 260 УК РФ, не имеет.
Таким образом, вместо исключительно стоимостных показателей, установленных федеральным законодательством, в судебной практике незаконно используются по сути гражданско-правовые методики расчета негативных последствий в результате совершенных правонарушений, следствием чего является искусственное завышение размера причиненного ущерба и привлечение к уголовной ответственности лиц по более тяжким обвинениям при отсутствии в их действиях соответствующего уровня общественной опасности.
Показательным примером здесь может служить еще одно уголовное дело, рассмотренное Орджоникидзевским районным судом города Перми, по которому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, обвинялась Т. Согласно предъявленному обвинению она совершила незаконную рубку деревьев породы «черемуха обыкновенная» на общую сумму 1 710 393 рубля. Размер ущерба, как и в других подобных случаях, был произведен согласно порядку расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, утвержденному Постановлением администрации города Перми «Об утверждении Порядка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесен- ных на территории города Перми». В ходе судебного следствия стороной обвинения был представлен уточненный расчет ущерба, произведенный в соответствии с примечанием к ст. 260 УК РФ, согласно которому ущерб, причиненный в результате рубки данных деревьев, составил «всего» 11 386 рублей 50 копеек. С учетом данных обстоятельств суд квалифицировал действия Т. как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 260 УК РФ1.
При этом, строго говоря, юридически даже не имеется никакой нужды приводить анализ вышеперечисленных норм федерального законодательства, поскольку примечание к ст. 260 УК РФ прямо указывает на механизм определения размера ущерба, причиненного криминальной вырубкой лесных насаждений вне зависимости от места расположения объектов преступного посягательства, который подлежит исчислению исключительно по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике.
Более того, в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» прямо говорится о том, что вопрос о наличии в действиях виновных лиц признаков совершения незаконной рубки насаждений в значительном, крупном или особо крупном размере решается в соответствии с примечанием к ст. 260 УК РФ. Как незаконная рубка насаждений в значительном размере должно квалифицироваться совершение нескольких незаконных рубок, общий ущерб от которых превышает пять тысяч рублей, в крупном размере – пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере – сто пятьдесят тысяч рублей, при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить незаконную рубку в значительном, крупном или в особо крупном размере.
Однако практика рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 260 УК РФ на территории города Перми, в основе которой лежит использование не подлежащих применению муниципальных правовых актов, продолжает распространяться, свидетельством чему является представленная Уполномоченным по правам предпринимателей в Пермском крае информация, запрошенная им из управления Судебного департамента в Пермском крае.
При этом не исключено, что применение такого порядка определения ущерба в данной категории уголовных дел не является исключительным «правотворчеством» правоохранительных органов города Перми, и наличие значительного числа судебных актов, построенных по типу квазипрецедента, широко используемого судебной практикой в последнее время, вполне может иметь место также и в других регионах России.
Завершая наш комментарий правоприменения ст. 260 УК РФ на территориях городских муниципальных образований, помимо рекомендаций строгого соблюдения действующего федерального законодательства в этой непростой области правоотношений и пресечения подобной незаконной судебной практики, полагаем необходимым дополнить абзац третий п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» указанием на недопустимость использования при определении размера ущерба, причиненного в результате незаконной рубкой, иного, не предусмотренного примечанием к ст. 260 УК РФ, порядка; кроме того, необходимо уделить особое внимание специфике данного преступления в рамках повышения квалификации следователей, прокуроров, судей и адвокатов.
Список литературы Проблемы правоприменения статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Пермь»
- Конфоркин И. А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 24 с.
- Фалиеев В. А., Гармаев Ю. П. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений: вопросы теории и судебной практики // Российский судья. 2013. № 5. С. 30–33.
- Минина Е. Л., Шуплецова Ю. И. Лес и растительный мир: правовые проблемы разграничения // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 1. С. 84–104.