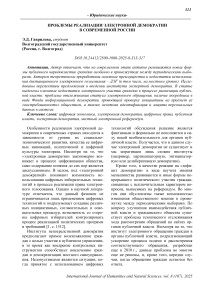Проблемы реализации электронной демократии в современной России
Автор: Гаврилова Э.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор отмечает, что на современном этапе активно развиваются новые формы публичного народовластия граждан особенно в промежутках между периодическими выборами. Автором теоретически проработаны основные преимущества и недостатки использования дистанционного электронного голосования – ДЭГ (в том числе, на местном уровне). Исследованы перспективы предложения о введении института экспертной демократии. В статье выделены ключевые недостатки электронного участия граждан в процессе реализации публичной власти: проблема отслеживания статуса электронного обращения, наличие посредника в виде Фонда информационной демократии, проводящей проверку инициативы на предмет её «востребованности» обществом, а также нечеткая идентификация и защита персональных данных в системе.
Цифровая экономика, электронная демократия, цифровые права, публичная власть, экспертная демократия, местный электронный референдум
Короткий адрес: https://sciup.org/170210899
IDR: 170210899 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-313-317
Текст научной статьи Проблемы реализации электронной демократии в современной России
Особенности реализации электронной демократии в современных странах находится в зависимости от уровня их социальноэкономического развития, качества ее цифровых инноваций, политической и цифровой культуры электората. Несмотря на то, что «электронная демократия» закономерно возникает в процессе цифровизации общества, само содержание понятия до сих пор является дискуссионным. В целом, под «электронной демократией» понимают возможность использования цифровых избирательных технологий в процессе реализации права электронного голосования. Однако в научной литературе отмечается, что данный феномен не ограничивается лишь применением цифровых технологий и подразумевает создание различных инициативных, согласительных и совещательных процедур, возможность со стороны цифровых избирателей контролировать процесс реализацией политических программ и требований [1, c. 1512].
Институты непосредственной демократии предполагают прямое волеизъявление граждан с целью участия в публичном управлении, в то время как внедрение контрольных инструментов способствует вовлечению граждан и демократизации местного самоуправления. Недопустимыми являются ситуации, когда примятое с использованием цифровых технологий обсуждения решение является фиктивным и формально не исполняется в силу некой необязательности для органов публичной власти. Получается, что в данном случае электронной демократии не существует и мы затрагиваем лишь схожие институты (например, партиципаторную, энтиципатор-ную или делиберативную демократию).
Кроме того, в качестве реакции на «дефицит демократии» в виде неучета мнения меньшинства развиваются и иные формы непрерывного политического участия граждан, связанные с исключительным характером вопросов, выносимых на референдум. Во многом они обусловлены также возможностью изменения общественного мнения в промежутке между периодическими выборами. По вопросу улучшения взаимодействия публичной власти и гражданского общества существует проблема технического отслеживания хода рассмотрения обращений на сайтах органов публичной власти. Несмотря на то, что институт электронного обращения граждан в органы публичной власти, подразумевающий ускорение процесса подачи и рассмотрения соответствующего обращения, разработан еще в 2010 г., данные проблемы во многом еще не решены, и, кроме того, нередки случаи, когда обращения граждан остаются без ответа.
Требования развития электронной демократии в условиях цифровой экономики подразумевает взаимосвязь с изначальными институтами прямой и представительной демократии. В СССР действовали различные органы государственной власти, основанные на народном представительстве (например, Верховный Совет Съезды советов рабочих и солдатских депутатов, Съезд народных депутатов или Центральные исполнительные комитеты), в правовом статусе которых признаки представительной демократии вытекали из количества участников. Однако ввиду того, что в процессе своей деятельности данные органы устанавливали продолжительные цели и рассматривали ряд исключительных вопросов, по своему статусу они приближались скорее к институтам непосредственной демократии. Сегодня в качестве органа, сочетающего в себе признаки как представительной, так и непосредственной демократии в зарубежных странах можно выделить Всебелорусское народное собрание [2, c. 46].
Цифровая демократия возникает в государствах с различным социально-политическим строем, новые формы цифрового участия граждан в политической сфере сочетают в себе признаки различных форм демократии. В целом, требованиями цифровизации обеспечивается ускорение оборота политической информации, а также унификация и стандартизация механизмов идентификации пользователей цифровых сервисов. Безусловно, строительство инфраструктуры электронной демократии подразумевает конечной целью снижение затрат на проведение выборов, однако сам процесс создания данной структуры до сих пор остается дорогостоящим мероприятием, требующим не только финансовых, но и интеллектуальных, кадровых инвестиций. Цифровая экономика подразумевает упрощение способов взаимодействия между предпринимателями и потребителями, повышая суммарное количество пользователей, улучшая систему управления корпорациями путем развития концепции «умных городов», а также ускорения научно-технического прогресса [3, c. 48].
Цифровые инновации открывают огромные возможности, но также несут различные риски. В научной литературе отмечается, что важнейшим условием трансформации обще- ства и политической системы является учет позитивных и негативных последствий цифровизации [4, c. 34]. Мы можем проследить особенности внедрения цифровых инструментов на региональном и местном уровнях. Например, на региональном уровне осуществляется реализация дистанционного электронного голосования (далее – ДЭГ), определенного п. 62.1 ст. 2 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ как голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения [5]. На настоящий момент использование ДЭГ обозначено в конкретных субъектах, в которых развита цифровая инфраструктура: разработаны и применяются цифровые платформы, а сама возможность их использования вытекает из решений избирательных комиссий.
Отметим, что потенциальные преимущества использования ДЭГ на выборах не исключают и возможные риски в виде недоверия избирателей к данной системе и процедурам определения результатов голосования (поскольку на современном уровне развития политической культуры граждан им свойственно рассматривать как истинные ручные процедуры подсчета).
Кроме того, процедура подсчета голосов поставлена в зависимость от программного обеспечения, что может подрывать доверие избирателей к системе. В демократической правовой системе должны быть разработаны строгие и единые федеральные правовые требования к технологиям ДЭГ, условиям и порядку их применения в голосовании.
Система же местного электронного референдума направлена на простое, оперативное и недорогое голосование населения по значимым вопросам местного развития. При этом, до сих пор преградой для реализации электронного референдума является степень развитости цифровой инфраструктуры органов местного самоуправления. Полагаем, что в данном случае необходимо закрепить на федеральном уровне право проведения этих референдумов и общие начала их проведения, а в последствии передать решение вопроса местным властям. Обеспечить правотворческую инициативу граждан и рост количества инициативных проектов возможно путем упрощения их регистрации в сети «Интер- нет», что в перспективе приведет к повышению качества реализации политических решений в цифровой инфраструктуре.
Кроме того, следует отметить развитие новых институтов прямой демократии в условиях цифровизации: например, к ним относят онлайн-дебаты, протесты и краудсорсинг [6, с. 19]. Считаем, несмотря на широкое применение подобных форм прямой демократии, традиционные структуры также продолжают играть значительную роль в развитии информационных прав и свобод. Граждане используют новые возможности для укрепления своих позиций в пространстве политической системы. В качестве новых институтов следует выделить выступающие в общей цифровой среде экспертно-аналитические системы, программы и проекты, связанные с реализаций новых функций государства, а также создание единых баз данных (например, база данных законопроектов Государственной думы РФ).
Также представляется интересным развитие институтов так называемой «экспертной демократии», когда блоггеры или иные лидеры общественного мнения в медиапространстве высказывают требования о необходимости изменений в той или иной сфере. Полагаем, что данное положение в целом перспективно, так как позволить учитывать мнение гражданского общества по различным вопросам, однако необходимо также разработать систему гарантий в виде требования о наличии у подобных лиц среднего-профессиональ-ного образования или иных профессиональных навыков, нивелирующих риски манипулирования общественным мнением, предотвращающих радикализацию той или иной социальной платформы [7, с. 81]. В свою очередь, анализ зарубежного опыта также показывает целесообразность ограничения политических высказываний публичных личностей в целях предотвращения манипулирования избирателями. Например, ограничение ношения отдельных цветов, отсылающих к символике политических партий, а также использования определенных жестов для кей-поп артистов в Корее в период президентских выборов [9].
Вместе с тем, интересным представляется следующий способ реализации электронной демократии в современной России. На настоящий момент действует процедура обще- ственного наблюдения за проведением выборов (помещениями для голосования, местами выдачи, а также подсчета голосов). В научной литературе справедливо отмечается, что конституционные рамки данной процедуры определены необходимостью авторизации в государственной информационной системе и пределами технических ресурсов операторов связи [8, с. 14].
До сих пор не решены некоторые проблемы, связанные с учетом мнения граждан в политической жизни общества по вопросам гражданского правотворчества и общественной инициативы. Так, например, еще Указом Президента РФ от 04.03.2013 № 183 [10] предусмотрена возможность предложения гражданами органам публичной власти идей каких-либо проектов правовых актов. При этом, инициатива считается перспективной, если в течение одного года на платформе за неё проголосовали на портале не менее 100 тыс. граждан. Сегодня в качестве посредника между властью и обществом выступает некоммерческая организация - Фонд информационной демократии, деятельность которого направлена на проверку инициативы на предмет её «востребованности» обществом. При этом, данная организация и по своему усмотрению может отказывать в регистрации инициативы.
В целом, можно выделить следующие недостатки действия данной системы: во-первых, это «необязательность» реализации выдвинутых общественных инициатив, которые могут быть приняты к сведению органами публичной власти или должностными лицами, а могут быть проигнорированы; во-вторых, проблема нечеткой идентификации и защиты конфиденциальных данных в цифровой системе.
Между тем, на внедрение цифровых технологий в процесс осуществления электронной демократии влияние продолжают оказывать и иные продукты цифровой инфраструктуры: искусственный интеллект, нейротехнологии, различные чат-боты и т. д. Кроме того, в качестве подобной технологии можно выделить электоральный-фандрайзинг, предполагающий сбор средств на избирательные кампании кандидатов как способ вовлечения граждан в демократические политические процессы.
Анализ зарубежного опыта показывает, что во многих странах распространено использование системы «одного клика», позволяющей в момент поддержать кандидата и перечислить денежные средства в его избирательный фонд. В России законодательство пока не предусматривает легального определения избирательного фонда, регулируя лишь отдельные аспекты. Например, речь идет о размере фонда, порядке его формирования, а также расходования денежных средств. Кроме того, предусмотрена даже ответственность за нецелевое использование данного фонда. Несмотря на это, полагаем, что уточнение в законо- дательстве данного определения позволит повысить электорально-правовую культуру избирателей, обращая их внимание на возможность частных пожертвований на выборах, нацеленных как раз на оперативное и действенное вовлечение граждан в публичную политику.
Между тем, в процессе развития электронной демократии РФ не должна игнорироваться система защиты частной жизни и персональных данных пользователей, что подразумевает внедрение элементов наблюдения и контроля за защитой конфиденциальности пользователей, предотвращения «взламывания» их аккаунтов, а также пресечение злоупотребления ими своими конституционными правами, когда лицо пытается обойти алгоритм и проголосовать несколько раз. В данном случае интересной представляется инициатива, предполагающая, что фундаментом для разработки системы цифровой идентификации избирателей может выступить опыт создания биометрических криминалистических баз данных, которые были бы определены по параметрам в зависимости от конкретных целей и задач избирательного процесса [11, c. 476].
В целях расширения круга применяемых в цифровой среде институтов непосредственной демократии и преодоления кризиса легитимности публичной власти, отчуждения избирателей от политической деятельности необходимо установление партиципаторной демократии, которая будет основана на широ- ком участии населения и последующим уточнением результатов политической деятельности. Однако прогрессивность внедрения системы саморегулирования в цифровой системе не означает отказа от мер государственного реагирования. Они ограничены в первую очередь построением правовой базы партиципаторной демократии в условиях цифровизации.
Расширение возможностей политического участия граждан, соблюдение требований сохранения конфиденциальности их персональных данных, возможность контроля за институтами представительной демократии возможно с учетом прогрессивного зарубежного опыта цифровизации (например, в Италии, ФРГ). Считаем, что именно это позволит оптимально совместить процессы развития цифровых избирательных технологий и информационных прав и свобод в РФ и мире.