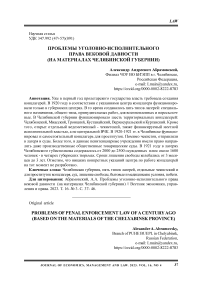Проблемы уголовно-исполнительного права вековой давности (на материалах Челябинской губернии)
Автор: Абрамовский А.А.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4 т.16, 2023 года.
Бесплатный доступ
Уже в первый год пролетарского государства власть требовала созданияконцлагерей. В 1920 году в соответствии с указаниями центра концлагеря функционировали только в губернских центрах. В то время создавалось пять типов лагерей: специального назначения, общего типа, принудительных работ, для военнопленных и пересылочные. В Челябинской губернии функционировало шесть территориальных концлагерей: Челябинский, Миасский, Троицкий, Кустанайский, Верхнеуральский и Курганский. Крометого, открыт отдельный ведомственный - чекистский, также финансируемый местнойисполнительной властью, а не центральной ВЧК. В 1920-1921 гг. в Челябинске функционировал и самостоятельный концлагерь для проституток. Помимо чекистов, отправлялив лагеря и суды. Более того, в данные пенитенциарные учреждения имели право направлять даже производственные общественные товарищеские суды. В 1921 году в лагерях Челябинского губисполкома содержалось от 2000 до 2500 осужденных плюс около 1600человек - в четырех губернских тюрьмах. Сроки лишения свободы колебались от 3 месяцев до 3 лет. Отметим, что никаких конкретных указаний центра по работе концлагерейна тот момент не разработано.
Челябинская губерния, пять типов лагерей, отдельные чекистский идля проституток концлагеря, суд, лишение свободы, бытовые и медицинские условия, побеги
Короткий адрес: https://sciup.org/142240052
IDR: 142240052 | УДК: 347.992
Текст научной статьи Проблемы уголовно-исполнительного права вековой давности (на материалах Челябинской губернии)
Branch of PUHE BUEPL in Chelyabinsk, Russian Federation, е-mail: ,
В 1920 году в соответствии с указаниями центра концлагеря функционировали только в губернских центрах. В то время создавалось пять типов лагерей: специального назначения, общего типа, принудительных работ, для военнопленных и пересылочные [4, с. 35].
Постановление ВЦИК «О лагерях принудительных работ» от 15 апреля 1919 года определяло субъектов, по решениям которых россияне направлялись в лагеря: «Заключению в лагерях принудительных работ подлежат те лица и категории лиц, относительно которых состоялись постановления отделов управлений Чрезвычайных комиссий, революционных трибуналов, народных судов и других советских органов, коим предоставлено право декретами и распоряже- ниями». Летом 1929 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) концентрационные лагеря переименованы в «исправительнотрудовые» [3, с. 15, 62].
Отметим, что уже в первый год пролетарского государства власть требовала создания концлагерей. «Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить районам право самостоятельно расстреливать... Устроить в районах маленькие концентрационные лагеря... Принять меры, чтобы трупы не попали в нежелательные руки. Ответственным товарищам ВЧК и районных ЧК присутствовать при крупных расстрелах. Поручить всем районным ЧК к следующему заседанию доставить проект решения по трупам», - запротоколировано на заседании ВЦИК от 31 августа 1918 года [18, с. 176].
Описание исследования
«Всего в Челябинские лагеря поступило 659 заключенных: мужчин 627, женщин 32», - говорилось в одном из отчетов губис-полкома [16, с. 197], определившего общую их наполняемость в 1000 человек [6, с. 35]. В губернском Центральном лагере принудительных работ только за невыполнение продналога содержалось 158 осужденных южноуральцев. Из всего спецконтингента лишь 14 человек (8,9%) были моложе 50 лет, самому старому «зэку» П.О. Дружинину - 86 лет. Лагерь был смешанного типа, в нем содержались как мужчины, так и женщины. Тридцатиоднолетняя заключенная П.В. Курлова, осужденная на год, отбывала наказание, «имея при себе ребенка 9 месяцев» [11, л. 53-54]. А в четырех пенитенциарных учреждениях губернии: «Челябинском исправдоме, Курганском и Троицком домах заключения, так и лагере принудительных работ» отделом юстиции Челябинского губисполкома 4 марта 1922 года «обнаружено 408 человек, содержащихся по приговорам выездных сессий Челябинского губтрибунала по обвинению в невыполнении продналога и невозвращении семенной ссуды», - сообщает докладная записка этого отдела [17, с. 285].
В связи со сложной криминогенной обстановкой подотдел принудительных работ губисполкома «обратил внимание на создание уездных лагерей в Миассе, Кургане и В.-Уральске» [17, с. 197], что вскоре и было сделано. В частности, 30 марта 1920 года постановлением Челябинского губревкома был создан концлагерь «в Миасском заводе... на 300-400 человек». Более того, 6 мая 1920 года Челябинскийгубисполком принял постановление «Об организации сети концлагерей», котором «в срочном порядке» потребовал от всех горуездных исполкомов предоставить сметы и проекты организации этих пенитенциарных объектов2 [40, с. 83,
91]. В конечном итоге в 1920 году в Челябинской губернии функционировало шесть территориальных концлагерей: Челябинский, Миасский, Троицкий, Кустанайский, Верхнеуральский и Курганский [12, л. 32].
Нами не установлено, был ли в Советской России создан еще один тип особых концлагерей - исключительно для буржуазии, чего настоятельно требовал Дзержинский в приказе по ВЧК «О карательной политике органов ЧК» от 8 января 1921 года. Но отдельный ведомственный, чекистский, также финансируемый местной исполнительной властью, а не центральной ВЧК, был [12, л. 32]. «В счет сметы отдела управления выдать на содержание концентрационного лагеря при губчека тридцать (30 000) рублей», - определялось постановлением губисполкома 6 мая 1920 года [17, с. 91].
По утверждению исследователя И.В. Нар-ского, в 1920-1921 гг. в Челябинске функционировал отдельный концлагерь для проституток [9, с. 123].
Для сравнения отметим, что в соседней Екатеринбургской губернии в это время организовано три концлагеря: №1 - в Екатеринбурге, № 2 Нижнем Тагиле, № 3 - в Верхотурье. В первом пенитенциарном учреждении в 1921 году содержалось 812 заключенных, смертность там достигала 12,7%. Господствовали произвол и беззаконие. Так, после побега шести человек заведующий отделом принудительных работ Уранов в целях устрашения контингента лично расстрелял 25 заключенных - бывших офицеров [8, с. 147].
Бежали и из челябинских лагерей. Так, например, на территории станицы Еткуль-ской бежавшим из Челябинского концлагеря казачьим сотником О. Мировицким летом 1920 года организован повстанческий отряд - «Голубая армия», начавший проводить вооруженные террористические акции. К августу «голубое войско» контролировало Еткульскую, Каратабанскую, Селе- зянскую, Дуванкульскую, Кичигинскую и Хомутининскую станицы, поселки Печен-кино, Шеломенцево, Назарово и др., в части из которых было объявлено военное положение [5, с. 111].
В связи с тем, что никаких конкретных указаний центра по работе концлагерей не разработано, челябинские власти вынуждены обратиться в Наркомюст со следующей просьбой: «Первого февраля открылся Челябинский концентрационный лагерь на 400 заключенных. Направляют губчека, во-ентрибунал 35 дивизии… Необходимы точные инструкции» [13, л. 12]. И такие директивы Наркомюста начали поступать. В целях установления единообразия при вынесении наказания к лишению свободы высшая юридическая инстанция циркуляром от 4 июня 1921 года установила, что к заключению в лагеря принудительных работ могут быть приговорены только следующие категории осужденных: «а) лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда (праздношатающиеся); б) лица, виновные в саботаже; в) мелкие спекулянты, поскольку спекуляция не связана с хищением из государственных складов, фабрик и учреждений; г) контрреволюционеры, не представляющие явной опасности для республики; д) незлостные дезертиры, не прибегающие в целях уклонения от воинской службы к подложным документам; е) труд-дезертиры; ж) лица, совершившие должностные преступления некорыстного характера». В приговорах необходимо было обязательно отмечать место отбывания лишение свободы и тип лагеря принудительных работ [10, л. 50].
Южноуральский исследователь И.В. Евсеев подсчитал, что в 1921 году в лагерях Челябинского губисполкома содержалось от 2000 до 2500 осужденных плюс около 1600 человек - в четырех губернских тюрьмах [6, с. 37]. Сроки лишения свободы колебались от 3 месяцев до 3 лет. По данным уральского профессора А.В. Бакунина, к концу 1920 года в Советской России, по неполным данным, открыто 84 лагеря, в ко- торых содержалось около 50 тыс. человек [2, с. 177].
К середине марта пенитенциарные учреждения Челябинска стали настолько перегруженными, что губернский отдел юстиции, информируя об этом 15 марта 1920 года губисполком, заявлял, что это «в ближайшее время грозит катастрофой... Лагерь принудительных работ использован быть не может, так как он перегружен и в приеме арестованных там отказано». Более того, в условиях очередной угрозы срыва сева гу-ботдел юстиции во главе с Д.Ф. Татаркиным в общем-то с государственных позиций вышел с ходатайством перед губиспол-комом: «Приближающаяся посевная кампания настоятельно требует, чтобы каждое трудовое хозяйство засеяло по возможности большую площадь земли, что отсутствие глав семей отразится гибельно на их трудовых хозяйствах и этим самым увеличит количество лиц, нуждающихся в государственной помощи, что ляжет тяжелым бременем для государственного бюджета. Имея в виду также, что скученность населения заключенных как в домах лишения свободы, так и в лагере ведет к распространению эпидемических болезней, что при таком положении дел нахождение в местах лишения свободы лиц - не преступников в собственном смысле этого слова, а также трудового крестьянства, оказавшегося случайным правонарушителем ввиду исключительного положения Советской республики, может лишь препятствовать осуществлению насущных задач исправительно-трудового воздействия на остальную массу преступников с уголовным элементом. А потому отдел юстиции находит своевременным и неотложным поставить перед губисполкомом на разрешение вопрос о возможности освобождения всех осужденных за невыполнение продналога и невозврата семенной ссуды путем обращения губисполкома на предмет санкционирования этого вопроса во Всероссийский центральный исполнительный комитет в порядке ст. 49 п. С3 Основного закона (Конститу- ции РСФСР)» [17, с. 285-286]. К сожалению, в какой степени был реализован этот проект, нам неизвестно.
На первом уездном челябинском съезде судебных работников в августе 1920 года «проанализирована общая эффективность и достаточность пенитенциарных учреждений региона. Выяснилось их малое число, съезд постановил выйти с ходатайством в Челябинский горуездный исполком о принятии мер к открытию новых арестных помещений».
Положение усугублялось тем, что именно в это время началась реформа этапирования заключенных. Была ликвидирована аналогичная комендатура на станции Челябинск, занимавшаяся срочной отправкой зэков. По новым правилам пересылка спец-контингеннта могла производиться «не более раза в месяц», что не способствовало своевременному освобождению тюремных мест. Нужны были дополнительные посадочные объемы. В связи с этим губюст предложил высшей региональной исполнительной власти: «Единственно нормальным выходом из создавшегося положения является освобождение зданий бывшей тюрьмы от расположенного в них лазарета». Уже на следующий день губревком принял решение о свертывании госпиталя губчекатиф в здании тюрьмы [17, с. 357-358].
Забиты были и другие пенитенциарные объекты, в том числе в территориях губернии. «Специально оборудованного здания, как можно бы было назвать дом лишения свободы в г. Куртамыше, не имеется... Первое помещение... это бывший магазин Панова, помещение малого размера, арестованными слишком переполнено. Подразделений мужчин и женщин нет, сидят все вместе, а также подразделений на категории совершенных преступлений не имеется. Находятся в “общей” вместе, например, подозреваемые в соучастии в белогвардейских бандах, пособничестве таковым, укрывательстве таковых, спекулянты, противосо-ветские агитаторы, агитаторы против посевной кампании и разверстки, заложники и др. лица, вызываемые в качестве обвиняемых в судебные органы. Все заподозренные в тех или иных преступных деяниях содержатся без предъявления обвинения от двух недель до трех месяцев, большая часть арестованных числится за политбюро и часть из них за Куртамышской горуездной милицией... Второе помещение бывшего каземата при волисполкоме также... переполненное заключенными... Третье помещение - бывшая кладовая Тимофеева, где содержится 118 человек заложников... Из всех заключенных в качестве заложников большинство имеет сыновей, находящихся в рядах Красной армии, от одного до трех сыновей», - отмечается в «Акте обследования мест заключения в г. Куртамыше», уездном центре Челябинской губернии, 1 марта 1921 года, проведенном комиссией в составе председателя выездной сессии № 2 губревтрибунала Неум-нова, члена коллегии трибунала Жихарева, «военследователя» Яковлева и чекиста Ве-ренкина. Последнему правоохранителю в целях какой-то разгрузки мест заключения комиссией было предложено выделить специальных субъектов: «Как представителю губчека, ходатайствовать перед вышеуказанной инстанцией об освобождении, находящихся под стражей в качестве заложников отцов красноармейцев» [17, с. 377-378].
О бытовых условиях контингента переполненных челябинских концлагерей свидетельствовали сами советские чиновники. В этом отношении весьма характерным до-
3 «Ведению Всероссийского съезда Советов и Всероссийского Центрального исполнительного Комитета подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то: ...С) Право амнистии, общей и частичной» // Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики // Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие. Составитель Ю.П. Титов. М.: «Проспект», 1998. С. 312.
кументом является официальное письмо заведующего отделом принудительных работ Г. Морозова в отдел управления губиспол-кома. «Губэвак отказал в отпуске... белья, одежды, обуви и постельных принадлежностей по числу 700 неимущих. Вопрос с совершенным отсутствием одежды и обуви у заключенных лагерей в настоящее время с наступлением зимних холодов настолько обострился, что грозит в самом недалеком будущем прекратить всякую высылку заключенных на работы, что, в свою очередь, нанесет неизгладимый вред республике. К тому же на почве простуды и нечистоплотности за отсутствием белья среди заключенных все больше и больше увеличивается заболеваемость, грозящая превратиться в эпидемию», - информировал 19 ноября 1920 года советский чиновник [17, с. 373].
Вернемся в уездный Куртамыш. «Помещение содержится грязно, люди размещаются на нарах и под нарами, освещения нет, специальных кипятильников не имеется, почему заключенным приходиться кипятить воду на маленькой железной печке, отчего большинство остается совершенно без кипятка. Все заключенные продукты получают по установленной норме. Жалоб на пищу от заключенных не поступало... Ватерклозета (туалета - Авт.) совершенно не имеется, заключенные выводятся оправляться за дом арестного помещения, где нет никакой ямы или уборной... Помещение находится в трех саженях от входа в нардом около местности проведения публичных собраний, и такая антисанитария в корне недопустима», - отмечается в вышеуказанном акте [17, с. 378].
Подчеркнем, что городские «зэки» питались лучше сельских. На первом губернском юрсъезде в октябре 1920 года поднималась проблема об источнике содержания под стражей в волисполкомах лиц во время производства предварительного следствия, т.к. данные органы власти «отказываются снабжать продовольствием таких лиц». На- чальником губернского отдела юстиции Вараксиным в связи с тем, что арестные помещения находились в ведении отдела управления губернского исполнительного комитета совета, дано обещание разрешить этот вопрос совместно с данным советским учреждением.
Здесь цинично отметим, что жизнь, в частности даже такое скудное питание, была лучше, чем на воле, где люди сотнями умирали с голода. Лица, осужденные к лишению свободы, по истечению срока наказания умоляли лагерное начальство не освобождать их, а оставлять в местах заключения. «Я прошу сейчас только не возвращать меня на родину, везите меня куда хотите! Таких, как мы, я знаю, отпускают домой. Мою жену тоже отпускают домой, но она не хочет, так как дома придется умереть», -говорилось в заявлении крестьянина с. Андреевки Бузулукского уезда Оренбургской губернии, отбывавшего наказание в одном из южноуральских концлагерей [14, с. 315].
Куртамыш, видимо, переполнил пенитенциарную чашу. Губисполком в конце января 1922 года «ввиду усиления смертности среди заключенных» принял постановление «О разгрузке арестных домов». В первую очередь к этому процессу привлекался губревтрибунал. Ему предлагалось оперативно определить судьбу арестованных, сидящих необоснованно длительное время, путем создания «дополнительных дежурных камер» в Куртамыше и Верхнеуральске. Гу-бюст должен был организовать перевод всех осужденных за невыполнение продналога в одно место - «Центральный Челябинский лагерь». Для Куртамышского арестного дома дополнительно выделялись продпайки из фонда губЧК. Также в одном из челябинских лазаретов создавалась комната «специально для помещения больных из арестных домов» [17, с. 414].
После санитарных обследований уклон пошел в сторону соблюдения процессуальной законности нахождения зэков в концлагере: «а) основания содержания под стражей, б) соблюдение заключенных сроков содержания, в) правильность применения наказания», - отмечается в одном из актов. В результате октябрьской 1922 года прокурорской проверки Челябинского концлагеря установлено, что из 285 списочного состава заключенных наказание отбывало 88 человек, остальные 198 находились в бегах. Кроме того, все они, «осужденные на разные сроки различными судебными учреждениями, как-то нарсудами, трибуналами и ЧК, многие из них к строгой изоляции за контрреволюционные преступления, бандитизм, проднало-говые нарушения и пр.», фактически постоянно прибывали вне стен лагеря. «Заключенные находятся на полевых работах в разных совхозах с постоянным местопребыванием там... не охраняются, за исключением внутренних лагерных надзирателей по одному или два человека на группу заключенных 20-30 человек. Часть заключенных работает в губкоммунотде-ле и других учреждениях города с проживанием на вольной квартире... Лагерь в настоящее время ввиду отсутствия в нем заключенных в том состоянии запустения и его санитарного состояния остается без наблюдения с чьей бы то ни было стороны», - далее констатировалось в акте обследования. Были выявлены нарушения в оформлении амнистии к четвертой годовщине Октябрьской революции. В лучшем случае в карточке отдельных зэков сделана запись красными чернилами «применена амнистия, срок сокращен на 1/3-2/3». Заключение комиссии было суровым: «В Челябинском концентрационном лагере порядок содержания заключенных и система использования их на работах совершенно не соответствуют карательной политике РСФСР... Использование заключенных на внешних работах без соответствующего конвоя недопустимо, и побеги важных и опасных для республики преступников в 90% случаях объясняются отсутствием охраны... Поскольку лагерь не может по своему внутреннему устройству обеспечить изоляцию, заключив в него осужденных за контрреволюционные деяния к строгой изоляции... таких заключенных необходимо перевести в дом лишения свободы... в дальнейшем по таким приговорам заключение лагерю воспретить» [17, с. 445].
Интересно одно упоминание об этой категории пенитенциарных учреждений в книге челябинца К.Н. Теплоухова, относящееся еще к 1914 году: «Закрылся и завод Обердорфера в Миассе, его, как немецкого подданного, по примеру Германии в числе других отправили в контрационный лагерь» [15, с. 241].
Также отметим функционирование данных объектов в период колчаковщины. «Я также был арестован и просидел в чешском арестантском вагоне три дня, после чего был отправлен в город, где меня судили. Суд состоялся под председательством эсера Шулова, работавшего в паровозном депо. Суд вынес приговор: водворить меня в тюрьму впредь до восстановления порядка в городе Челябинске. Просидев три месяца в тюрьме, я, Гуськов, Миценгендлер и др. были переведены в концентрационный лагерь. Первое время нас содержали в красных казармах, а потом перевели в бывшую Петровскую мельницу, что сзади винного завода (теперь витаминный завод). Лагерь был обнесен колючей проволокой и в нем содержались кроме русских, также и мадьяры. Чехи избивали мадьяр, а комендант Крючков бил русских. Заключенные в лагерях были голодные и оборванные. Железнодорожники и граждане города сочувствовали заключенным, приносили им пищу и кое-что из одежды. Если коменданты бывали трезвыми, заключенные могли воспользоваться получением продуктов, а если среди них была пьянка, то, бывало, допустят заключенных до проволочного заграждения, а потом начнут хлестать нагайками. В марте 1919 г. мы были освобождены из лагеря (отметим: за четыре месяца до занятия Че- лябинска красными - Авт.). После того, как был освобожден город Челябинск Красной Армией, бывший комендант лагеря Крючков как-то пришел точить топор в депо. Тов. Гуськов (ранее сидевший в лагере) увидел его и сообщил в ж.-д. ЧЕКА. Крючкова арестовали и по приговору расстреляли», - вспоминал красногвардеец С.М. Емелин [7, с. 11-12].
Другое свидетельство южноуральца И.И. Шеломенцева: «В городе вовсю свирепствовала контрразведка. Людей хватали на улицах, в домах, на работе. Они попадали в застенки. Их сажали в тюрьму, заключали в концентрационный лагерь. В уфимской тюрьме в августе 1918 года содержалось около 500 заключенных сторонников Советской власти или просто заподозренных в сочувствии к ней... Особенно страшную картину представлял концентрационный лагерь по улице Центральной (ныне территория стадиона “Труд”). В бараках 103-го запасного пехотного полка, окруженные колючей проволокой, ждали своей участи 2 000 заключенных. Казалось, наступила темная страшная ночь» [1, с. 303].
Хотелось бы выяснить, когда и где зародился институт концентрационного лагеря, но история пенитенциарной системы Челябинска - это тема отдельного исследования.
Список литературы Проблемы уголовно-исполнительного права вековой давности (на материалах Челябинской губернии)
- Аминев, З.А. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Башкирии (1917-1919 гг.). Уфа: Башкирское книжное издательство. 1966.
- Бакунин, А.В. История советского тоталитаризма. Кн. 1. Генезис. Екатеринбург, 1996.
- ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918-1960. Документы. М., 2002.
- Декреты Советской власти. Т. 6. 1 августа - 9 декабря 1919 г. М.: Издательство политической литературы, 1973.
- Дорогие мои земляки. Из истории Еткульского района // Автор-составитель краевед В.И. Сосенков. Челябинск: «Форум-издат», 1994.
- Евсеев, И.В. К вопросу о количестве заключенных в исправительно-трудовой системе Советской России (1919-1956 гг.) // Труды кафедры новейшей истории. Т. 2. Отв. ред. С.А. Баканов и др. Челябинск, 2008.
- Емелин, С.М. Бурные годы // Страницы героического прошлого. Воспоминания участников Октябрьской революции и гражданской войны на Южном Урале. Газетно-жур-нальное издательство «Челябинский рабочий», 1958.
- Игишева, Е.А. Современная историография развития пенитенциарной системы на Урале в 1920-е годы // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. №18 (119). С. 145-154. EDN MSXUUV
- Нарский, И.В. Скороспелый эксперимент? Четыре эпизода из истории Челябинской губернии. 1919-1923 гг. // Южный Урал в судьбе России (к 70-летю Челябинской области): Материалы научно-практической конференции. Челябинск, 2003.
- ОГАЧО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 88.
- ОГАЧО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 153.
- ОГАЧО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 11.
- ОГАЧО. Ф. 363. Оп. 1. Д. 14.
- Скоркин, К В. НКВД РСФСР: 1917-1923 гг. // МВД России: Люди, структура, деятельность. Т. 2. М.: Объединенная редакция МВД России. 2008.
- Теплоухов, К.Н. Челябинские хроники. Челябинск, 2001.
- Челябинская губерния в период военного коммунизма (июль 1919-декабрь 1920 гг.). Документы и материалы. Редактор-составитель С.Н. Корниенков. Челябинск: Челябинское книжное издательство, 1960.
- Челябинская губерния, 1919-1923 гг.: абрис истории. Сборник документов. Редакционная коллегия: И.И. Вишев и др. Челябинск, 2019.
- Шамбаров, В. Белогвардейщина. М.: "Эксмо". "Алгоритм", 2004.