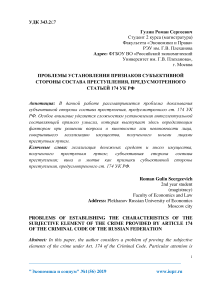Проблемы установления признаков субъективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ
Автор: Гулин Р.С.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные науки и образование
Статья в выпуске: 1-2 (56), 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной работе рассматривается проблема доказывания субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Особое внимание уделяется сложностям установления интеллектуальной составляющей прямого умысла, которая выступает здесь определяющим фактором при решении вопроса о виновности или невиновности лица, совершившего легализацию имущества, полученного иными лицами преступным путем.
Легализация денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, субъективная сторона состава преступления, вина и мотив как признаки субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174 ук рф
Короткий адрес: https://sciup.org/140241563
IDR: 140241563
Текст научной статьи Проблемы установления признаков субъективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ
В теории уголовного права под субъективной стороной состава преступления понимают психическое отношение лица, совершившего противоправное деяние, к своему деянию и наступившим последствиям. Данный элемент состава преступления включает в себя такие признаки как вина, мотив, цель и эмоциональное состояние лица, совершившего преступление. Согласно идее о делении признаков, характеризующих субъективную сторону состава преступления, на обязательные и факультативные, к первым из них относят вину, ко вторым — все остальные. Вместе с тем, такое деление является условным, поскольку в некоторых случаях в качестве обязательных могут выступать и другие перечисленные признаки.
Так, анализируя положения диспозиции ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее – УК РФ), несложно прийти к выводу о том, что преступление, о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершается с прямым умыслом и определенной целью. Виновное лицо здесь должно стремиться придать вид тому, что владение, пользование и распоряжение имуществом, приобретенным другими лицами преступным путем, осуществляется им правомерно. Однако установление указанного признака в правоприменительной практике вызывает определенные трудности. Именно поэтому Пленумом Верховного Суда Российской Федерации (далее – Пленум
ВС РФ) давались неоднократные разъяснения по вопросу его установления. Например, в своем постановлении от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»1(далее – постановление Пленума ВС РФ от 07.07.2015 № 32) данный орган, в частности разъясняет, что цель рассматриваемого преступления может быть установлена правоприменителем как на основании конкретных обстоятельств деяния, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, так и на основании других, связанных с ними действий виновных лиц, имеющих намерение скрыть факт преступного приобретения имущества и обеспечить возможность его свободного оборота. Для лучшего понимания этого, Пленум ВС РФ дает открытый перечень возможных видов проявления данной цели путем перечисления различных обстоятельств совершения операций и сделок (отсутствие реальных расчетов; использование расчетных счетов фирм – «однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств; участие в сделках контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах и т.д.), указывая при этом, что само по себе совершение данных расчетов и сделок не может предрешать выводы о необходимости их квалификации по ст. 174 УК РФ, такая квалификация должна осуществляться лишь в случае, когда лицо заведомо совершило такую финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом.
Вместе с тем, на практике подтвердить наличие цели и умысла виновного на совершение преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, какими-либо сведениями, которые бы обладали свойствами доказательств, достаточно сложно, учитывая, что психологическое отношение лица к своему деянию всегда является субъективным и малодостоверным1.
Особенно сложно на практике доказать интеллектуальную составляющую умысла данного преступления. Так, поскольку виновный здесь заведомо для себя должен осознавать, что он легализует имущество, добытое другим лицом преступным путем, то предполагается, что он должен понимать указанные факты для себя достаточно достоверно. Отсюда в науке уголовного права, а также в правоприменительной практике неоднократно возникал вопрос о том нужно ли исходить из того, что субъект преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, должен не просто осознавать, что общественные отношения в сфере экономической деятельности охраняются уголовным законом, а осознавать конкретные детали совершаемого им преступления, а также о том, должен ли он знать какое именно преступление совершили другие лица, приобретая имущество, являющегося предметом преступления по ст. 174 УК РФ.
Отвечая на первый из данных вопросов, можно констатировать, что в правоприменительной практике действует «презумпция знания», согласно которой незнание закона не освобождает лицо от ответственности. Это означает, что бесспорное знание гражданами конкретных уголовно-правовых запретов для привлечения их к уголовной ответственности не требуется. Предполагается, что граждане должны в принципе понимать о существовании юридической, в том числе уголовной ответственности за совершение некоторых деяний в сфере экономической деятельности, то есть специальной информированности виновного лица о деталях квалификации такого деяния не требуется.
Не требуется также для квалификации по ст. 174 УК РФ знаний у «легализатора» имущества об обстоятельствах преступлений, в ходе совершения которых легализуемое имущество было приобретено. Разъяснения об этом даны в п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 07.07.2015 № 32: «…по смыслу закона, лицо может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления».
Вместе с тем, необходимо согласиться с теми авторами, которые придерживаются позиции о том, что на практике в ходе расследования рассматриваемых преступлений следователям все же приходится устанавливать источники осведомленности виновного лица о преступном происхождении имущества и о конкретном преступлении, в результате которого они получены в связи с тем, что в материалах уголовного дела должно быть установлено достоверное знание, а не догадка указанного лица о «преступном прошлом» данного имущества1.
Для того, чтобы устранить проблемы правоприменительной практики, поддержать позицию, высказанную ранее Пленумом ВС РФ, и облегчить процесс доказывания вышеуказанных обстоятельств по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174 УК РФ, некоторые авторы, например М.А. Смирнов2, предлагают российскому законодателю внести изменения в ст. 174 УК РФ с учетом положений, содержащихся в п.п. «а», «b» ч. 3 ст. 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 3 . Согласно данным изменениям лицо будет считается заведомо осведомленным о приобретении другими лицами имущества преступным путем, в том числе в случаях, когда такое лицо предполагало или должно было предполагать, что имущество является доходом, полученным в результате совершения преступления. Однако вряд ли возможно согласиться с данными предложениями, поскольку они повлекут за собой такие последствия, согласно которым анализируемое здесь преступление будет совершаться не только умышленно, но и по неосторожности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемы квалификации преступлений по ст. 174 УК РФ, несмотря на разъяснения Пленума ВС РФ в настоящее время еще не решены. Дальнейшая законодательная разработка признаков, определяющих интеллектуальную составляющую прямого умысла анализируемого здесь состава преступления , будет способствовать правильной квалификации деяний, связанных с легализацией имущества, приобретенного преступным путем.
Список литературы Проблемы установления признаков субъективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005)//Собрание законодательства РФ, 19.02.2018, N 8, ст. 1091.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018)//Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2015.
- Жариков Ю.С. К вопросу о правовом регулировании субъективной стороны отмывания доходов, полученных преступным путем: цель и уголовно-правовая ошибка//Вестник Академии. 2012. № 4. С. 144-148.
- Смирнов М.А. Вопросы доказывания субъективной стороны преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем//Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2017. Т. 3. № 4(12). С.106-108.