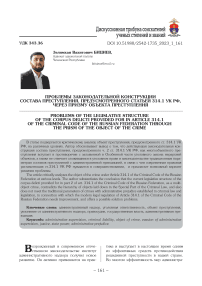Проблемы законодательной конструкции состава преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ, через призму объекта преступления
Автор: Бициев Зелимхан Вахитович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна
Статья в выпуске: 1 (50), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье подвергается критическому анализу объект преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, на различных уровнях. Автор обосновывает вывод о том, что действующая законодательная конструкция состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, как многообъектного преступления вступает в противоречие с заложенной в Особенной части уголовного закона иерархией объектов, а также не отвечает сложившимся в уголовном праве и законодательстве традиционным параметрам составов преступлений с административной преюдицией, в связи с чем современная правовая регламентация ст.314.1 УК РФ нуждается в совершенствовании, и предлагает возможный вариант решения проблемы.
Административный надзор, уголовная ответственность, объект преступления, уклонение от административного надзора, правосудие, государственная власть, административная преюдиция
Короткий адрес: https://sciup.org/140297805
IDR: 140297805 | УДК: 343.36 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_1_161
Текст научной статьи Проблемы законодательной конструкции состава преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ, через призму объекта преступления
В озрожденный в современном отечественном законодательстве институт административного надзора получил новое развитие. Он активно применяется на прак- тике и выступает в настоящее время одним из эффективных средств противодействия рецидивной преступности в нашей стране. Во многом эффективность мер администра- тивного надзора, регулируемого Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее – Федеральный закон «Об административном надзоре») обусловлена наличием двух корреспондирующих видов ответственности за нарушение требований административного надзора: административной (ст. 19.24 КоАП РФ)) и уголовной (ст. 314.1 УК РФ). Некоторые проблемные аспекты последней из них, обусловленные спецификой объекта данного преступного посягательства, будут рассмотрены нами далее.
Как известно, в основе построения системы Особенной части УК РФ лежит классификация объектов «по вертикали», в рамках которой принято выделять 4 вида объекта: общий, родовой, видовой и непосредственный.
Представляется нецелесообразным уделять внимание рассмотрению общего объекта анализируемого преступного посягательства по причине того, что, как отмечается в теории уголовного права, общий объект един для всех видов конкретных преступлений. Соответственно, для уклонения от административного надзора или неоднократного несоблюдения установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений, общий объект не обладает какой-либо спецификой.
Как следует из законодательного закрепления преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, в разделе X УК РФ «Преступления против государственной власти» родовым объектом выступают «общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование государственной власти» [5, с. 50; 13, с. 78]. Толковый словарь С.И. Ожегова определяет власть, как «право и возможность распоряжаться кем-нибудь или чем-нибудь, подчинять своей воле; политическое господство, государственное управление и его органы».
В соответствии со ст. 10 Конституции РФ «государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и су- дебную». Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Как следует из содержания ст. 11 Конституции РФ, государственная власть осуществляется посредством деятельности федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Кроме того, в соответствии со ст. 132 Конституции РФ «органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями». Из этого следует, что посягательство на нормальную деятельность органов местного самоуправления образует посягательство на интересы государственной власти. Однако, согласно ст. 12 Конституции РФ, «местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно», а «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». В соответствии с данным положением нарушение нормальной деятельности органов местного самоуправления, напротив, нельзя рассматривать в качестве посягательства на интересы государственной власти.
Обозначенное несоответствие порождает в научном сообществе полемику относительно содержания государственной власти как объекта уголовно-правовой охраны, где основным предметом споров является вопрос: стоит ли относить органы местного самоуправления и их законные интересы к государственной власти? В уголовно-правовой доктрине предлагаются разнообразные варианты решения обозначенной проблемы [3, с. 439].
Несмотря на важность данной проблемы, применительно к преступлению, предусмотренному ст. 314.1 УК РФ, она не является столь актуальной, поскольку, как следует из содержания норм Федерального закона «Об административном надзоре», в деятельности по установлению, продлению, прекращению и осуществлению административного надзора органы местного самоуправления не принимают непосредственного участия. Так, согласно ст. 6 и 7 Федерального закона «Об административном надзоре» административный надзор устанавливается, продляется и прекращается исключительно судом на основании заявлений исправительного учреждения или органа внутренних дел. Все перечисленные органы входят в систему органов государственной власти, а не органов местного самоуправления. В соответствии со ст. 8 рассматриваемого Федерального закона сам административный надзор за поднадзорным лицом осуществляется органом внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения поднадзорного лица. Согласно приказу МВД России от 8 июля 2011 г. N 818 «О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в осуществлении административного надзора участвуют преимущественно участковые уполномоченные полиции, а также иные подразделения и службы органов внутренних дел в пределах своей компетенции (например, сотрудники патрульно-постовой службы полиции; дежурных частей территориальных органов и др.).
Нам в большей степени импонирует позиция тех ученых, которые опираются на действующее отечественное законодательств, прежде всего Конституцию РФ, в соответствии с которой органы местного самоуправления не включены в систему органов государственной власти.
Таким образом, родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное, законное функционирование государственной власти, реализуемой в деятельности федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Исходя из названия главы 31 УК РФ видовым объектом преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие реализацию правосудия. В юридической доктрине правосудие определяется по-разному. На сегодняшний день в правовой науке можно выделить два основных подхода к рассматриваемому виду объекта: «широкий» и «узкий».
Согласно «узкому» подходу, правосудие трактуется исключительно как «деятельность судебных органов» [11, с. 511]. Данный подход базируется, прежде всего, на действующем конституционном законодательстве. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ «правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом». Аналогичное положение закреплено и в ч. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». «Узкий» (или, как его еще называют, «процессуальный») подход к пониманию правосудия получил широкое распространение в конституционном праве, а также среди ученых-процессуалистов [6, с. 17; 10, с. 60.].
В доктрине уголовного права большую поддержку среди ученых-материалистов получил «широкий» подход к пониманию правосудия. Согласно указанному подходу, правосудие – это не только деятельность суда, но и деятельность других правоохранительных органов, оказывающих содействие суду в отправлении правосудия (органов прокуратуры, предварительного следствия, исполняющих судебные решения) [9, с. 280]. Стоит заметить, что именно «широкий» подход к толкованию правосудия в полной мере соответствует позиции законодателя, обозначенной в уголовном законе. Представляется, что именно по этой причине «широкий» подход к пониманию правосудия нашел обширную поддержку в отрасли уголовного права. Как верно отмечает Л.В. Лобанова, «деятельностью по отправлению правосудия объект посягательств, включенных в главу 31 УК РФ, не ограничивается» [9, с. 25]. Многие специалисты в области уголовного права обращают внимание на тот факт, что термин «правосудие», используемый в уголовном законодательстве и в теории уголовного права, не соответствует его буквальному толкованию в «узком» («процессуальном») смысле [12, с. 8].
Из содержания статей, включенных в главу 31 УК РФ, следует, что термин «правосудие» в широком смысле охватывает как досудебную, так и судебную процессуальную деятельность, а также исполнительное про- изводство в части исполнения судебных решений. Надлежащая реализация интересов правосудия во многом зависит от должного уголовно-правового обеспечения деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры, органов и учреждений, исполняющих судебные акты. Такие органы создают необходимые условия для реализации судом его полномочий по отправлению правосудия и обеспечению выполнения судебных решений. Соответственно, уголовно-правовая защита правосудия как самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны состоит не только в защите общественных отношений, возникающих в ходе непосредственно деятельности судов по отправлению правосудия, но и в защите тех отношений, которые обеспечивают предпосылки для ее осуществления, а также реализацию ее результатов.
На основании вышеизложенного можно заключить, что под видовым объектом преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, следует понимать общественные отношения по обеспечению нормальной, регламентируемой действующим законодательством деятельности суда по отправлению правосудия, а также иных правоохранительных органов, направленной на реализацию целей и задач правосудия.
Необходимо определиться и с непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 314 УК РФ. Представляется, что при определении непосредственного объекта данного посягательства целесообразно отталкиваться от понятия и целей самого административного надзора, т.к. через дефиницию и предназначение данного правового явления возможно уяснить сущность общественных отношений, им обусловленных.
Легальное понятие административного надзора закреплено в ст. 1 Федерального закона «Об административном надзоре», в соответствии с которым «административный надзор – осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом». Целевое предназначение административного надзора регламентировано в ст. 2 этого же Федерального закона, где указано, что «административный надзор устанавливается для предупреждения совершения лицами, указанными в ст. 3 настоящего Федерального закона, преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов». Аналогичным образом цель административного надзора сформулирована и Высшей судебной инстанцией в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. N 15 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
Факт нормативного закрепления понятие и предназначения административного надзора свидетельствует, на наш взгляд, об особой важности данных правовых категорий. Поэтому считаем, что сущность и цели административного надзора должны найти отражение в определении непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ.
В уголовно-правовой доктрине предлагается множество различных вариантов определений непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, однако далеко не во всех из них авторы обращают внимание на сущность и цели административного надзора [1, с. 90; 7, с. 215; 8]. Большинство авторов, раскрывая содержание непосредственного объекта, ограничиваются указанием на то, что речь идет об отношениях, связанных с административным надзором, не конкретизируя при этом, в чем состоит специфика данных общественных отношений и каким образом они связаны с другими видами объектов в рамках классификации «по вертикали», в то время как в соответствии с указанной классификацией, на основе которой законодателем выстрое- на Особенная часть УК РФ, непосредственный объект должен соотноситься с видовым и родовым объектами по принципу «части и целого». По нашему мнению, в определениях всех видов объектов такая связь должна прослеживаться. Именно по этой причине считаем целесообразным в определении непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, отразить сущность административного надзора, а также его целевое предназначение.
С учетом вышеизложенного, основной непосредственный объект преступного посягательства, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, можно сформулировать следующим образом – общественные отношения, обеспечивающие соблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор (поднадзорным лицом), временных ограничений его прав и свобод, а также выполнение им обязанностей, установленных судом в соответствии с действующим законодательством в целях защиты государственных и общественных интересов, предупреждения совершения поднадзорным лицом преступлений и других правонарушений, оказания на него индивидуального профилактического воздействия.
Детальный анализ объектов преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, на всех уровнях позволил обратить внимание и сформулировать проблему, основанную на несоответствии его действующей законодательной конструкции принципам построения системы Особенной части уголовного закона по объекту преступления (классификации объектов преступления «по вертикали»).
Для начала обратим внимание на то, что ст. 314.1 УК РФ включает в себя две части, каждая из которых, образует самостоятельный основной состав преступления. При этом один из составов рассматриваемого преступного посягательства (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ) сконструирован законодателем в виде состава преступления с административной преюдицией. Ссостав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, не является преюдиционным. Несмотря на широкое использование современным законодателем административной преюдиции в уголовном законе, ее наличие в рамках уголовно-правовой нормы, как правило, порождает и в теории уголовного права, и в правоприменительной практике немало проблем в сфере квалификации таких составов преступлений. Наличие в рамках одной уголовно-правовой нормы двух основных составов преступлений, где лишь один из них содержит административную прелюдию, является весьма нетипичным явлением для Особенной части УК РФ.
Однако на этом особенности законодательной конструкции ст. 314.1 УК РФ не заканчиваются. Еще более нетипичной, как с точки зрения составов преступления с административной преюдицией, так и с точки зрения состава преступления в целом, конструктивной особенностью анализируемого состава преступления выступает указание в диспозиции ч. 2 ст. 314.1 УК РФ на обязательное наличие «сопряженности» с другими административными правонарушениями, которые никак не связаны с административным надзором. Как справедливо отмечают некоторые исследователи, «термин «сопряженное» используется законодателем в нескольких статьях уголовного закона, в том числе в ч. 2 ст. 105 УК РФ. В п.п. 7, 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» «сопряженность» определяется через слова «в связи», «в процессе»» [2, с. 28; 11, с. 43]. Значит, согласно ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, привлечение к уголовной ответственности по данной части анализируемой уголовно-правовой нормы возможно лишь в случае одновременного соблюдения следующих условий: 1) лицо неоднократно (т.е. два раза в течение одного года) привлекалось к административной ответственности по ч. 1 и по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ; 2) лицо в третий раз совершает нарушение правил административного надзора одновременно с совершением другого административного правонарушения, прямо указанного в диспозиции ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.
Ряд составов преступлений, закрепленных в Особенной части УК РФ, сформулиро- ваны законодателем в виде многообъектных, где наряду с основным непосредственным объектом преступного посягательства можно выделить как минимум еще один дополнительный непосредственный объект в рамках классификации объектов «по горизонтали». Законодательная конструкция состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, на первый взгляд свидетельствует о том, что данный состав преступления относится как раз к числу многообъектных, на что указывает использование законодателем термина «сопряженность». Однако, если обратится к постатейным комментариям УК РФ и к самостоятельным исследованиям уклонения от административного надзора или неоднократного несоблюдения установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений, то нигде не упоминается о многообъектности рассматриваемого преступного посягательства.
Полагаем, что преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 314.1 УК РФ не рассматривается в качестве многообъектного по ряду причин. Во-первых, законодатель указывает в диспозиции рассматриваемой уголовно-правовой нормы на сопряженность не с другими преступлениями (как это сформулировано в ч. 2 ст. 105 УК РФ), а с другими административными правонарушениями. Составы административных правонарушений, а равно охраняемые ими общественнее отношения находятся за пределами уголовно-правового регулирования и не входят в объект уголовно-правовой охраны. Во-вторых, как следует из положений ранее упоминаемого постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1, сопряженность предполагает одновременную квалификацию сразу двух сопряженных составов преступлений, каждый из которых содержит самостоятельный непосредственный объект. Например, как указано в п. 7 данного постановления «при квалификации действий виновного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку «убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника» содеянное должно квалифицироваться по совокупности с преступлениями, предусмотренными ст. 126 или ст. 206 УК РФ». Представляется, что допол- нительный непосредственный объект в таких случаях выделять нецелесообразно, так как сопряженность не преобразует состав преступления в многообъектный. Соответственно преступление, предусмотренное ст. 314.1 УК РФ нельзя признать многообъектным.
С учетом вышеизложенного возникает вполне закономерный вопрос: насколько с точки зрения принципов построения системы Особенной части уголовного закона по объекту преступления обоснованно указание в диспозиции ч. 2 ст. 314.1 УК РФ на сопряженность с административными правонарушениями, которые абсолютно никак не связаны с общественными отношениями в сфере административного надзора?
В рассматриваемой уголовно-правовой норме законодатель к числу сопряженных административных правонарушений отнес правонарушения против порядка управления (за исключением административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 КоАП РФ) (глава 19 КоАП РФ), правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 КоАП РФ), правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность (глава 6 КоАП РФ, либо административные правонарушения, предусмотренные ч. 7 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо уклонение лица, управляющего воздушным судном, от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо передача управления воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения), ст. 11.9 КоАП РФ (управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения), ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Очевидно, что перечисленные виды административных правонарушений никак не связаны с возложенным на лицо административным надзором, ни даже со сферой правосудия в «широком», ни тем более с правосудием в «узком» смысле. Более того, данные правонарушения не являются тождественными и не являются даже однородными. Как верно подмечают некоторые специалисты, совершение большинства данных правонарушений поднадзорным лицом наряду с несоблюдением запретов и ограничений, обусловленных административным надзором, в принципе маловероятно. К примеру, В.А. Василенко отмечает, что «исходя из анализа КоАП РФ, в указанных главах содержится порядка 300 составов правонарушений. И далеко не каждое из них реально может быть совершено лицом, в отношении которого установлен административный надзор» [4, с. 203].
Итак, отвечая на поставленный выше вопрос, вынуждены констатировать, что в настоящее время законодательная конструкция преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, не соответствует принципам построения системы Особенной части УК РФ по объекту преступления, поскольку общественные отношения, на которые посягает виновный при совершении сопряженных административных правонарушений, перечисленных в диспозиции ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, выходят за рамки непосредственного, видового, родового объекта рассматриваемого преступления.
В целях устранения обозначенного противоречия в ст. 314.1 УК РФ следует внести ряд изменений, направленных на приведение ее законодательной конструкции в соответствии с принципами построения системы Особенной части уголовного закона по объекту преступления. Для этого необходимо исключить из диспозиции ч. 2 ст. 314.1 УК РФ указание на сопряженность с другими административными правонарушениями. На наш взгляд, исключение «сопряженности» как обязательного криминообразующего признака ч. 2 ст. 314.1 УК РФ не повлияет принципиальным образом на общественную опасность данного состава преступления. Полагаем, что в подавляющем большинстве случаев злостное, неоднократное (более двух раз) несоблюдение поднадзорным лицом возложенных на него судом запретов и ограничений в рамках административного надзора за непродолжительное время явно свидетельствует о наличии у поднадзорного лица стойкой сформировавшейся установки на дальнейшее игнорирование режима административного надзора, что обуславливает необходимость применения к нему более строгих мер уже уголовной, а не административной ответственности, вне зависимости от совершения им при этом иных, сопряженных административных или иных правонарушений.
Список литературы Проблемы законодательной конструкции состава преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ, через призму объекта преступления
- Астахова, А.О. Уголовно-правовая характеристика уклонения от административного надзора или неоднократного несоблюдения установленных судом в соответствии с Федеральным законом ограничения или ограничений (ст. 314.1 УК РФ): дис. ... канд. юрид. наук / А.О. Астахова. - Омск, 2017.
- Бавсун, М.В. Вопросы применения ч. 2 ст. 314.1 УК РФ / М.В. Бавсун, Н.В. Вишнякова // Законодательство и практика. - 2015. - N 1.
- Басова, Т.В. Современная трактовка объекта должностных преступлений / Т.В. Басова // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2005. - N 3.
- Василенко, М.М. К вопросу определения конструктивных признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений» / М.М. Василенко // Евразийский юридический журнал. - 2017. -N 4 (107).
- Волженкин, Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной практики / Б.В. Волженкин. -- СПб., 2005.
- Камардина, А.А. О понятии и сущности правосудия в уголовном судопроизводстве / А.А. Камардина // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2014. - N 3 (164).
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2 т. Т. 2 / под ред. А.В. Бриллиантова. - М., 2015.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Особенная часть. Разделы X - XII (постатейный). Т. 4 / отв. ред. В.М. Лебедев. - М., 2017.
- Лобанова, Л.В. Преступления против правосудия: теоретические проблемы классификации и законодательной регламентации / Л.В. Лобанова. - Волгоград, 1999.
- Наделяева, Т.В. Современное понятие и сущность правосудия в Российской Федерации / Т.В. Наделяева // Российский юридический журнал. - 2011. - N 6.
- Пудовочкин, Ю.Е. Преступление с административной преюдицией: проблемы отграничения множественности преступлений от сложного единичного деяния / Ю.Е. Пудовочкин // Вестник Академии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. - 2018. - N 4 (66).
- Тепляшин, П.В. Преступления против правосудия: учебное пособие / П.В. Тепляшин. -Красноярск, 2004.
- Утина, М.И. Объективные признаки злоупотребления должностными полномочиями / М.И. Утина // Вестник Уральского института экономики, управления и права. - 2018. - N 4 (45).