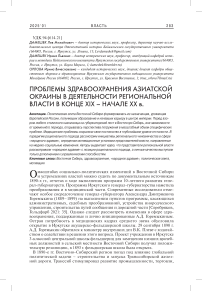Проблемы здравоохранения Азиатской окраины в деятельности региональной власти в конце XIX – начале XX в.
Автор: Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., Орлова И.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Политическая элита Восточной Сибири формировалась из назначенцев, уроженцев Европейской России, получивших образование и начавших карьеру в центре империи. Перед взором любого столичного назначенца на губернаторский пост в Восточную Сибирь, вне зависимости от временнóго периода, открывалась перспектива погружения в масштабный объем специфических проблем. Медицинские проблемы сохраняли свое постоянство в глубочайшем уровне отсталости. В парадигме рационального подхода рассмотрим инициативы регионального чиновничества в сфере «народного здравия», определим мотивационные установки представителей власти, направленные на медико-социальные изменения. Авторы выдвигают идею, что представители региональной власти рассматривали «народное здравие» с позиции рационального подхода, а личные качества выступали только дополнением к управленческим способностям.
Восточная сибирь, здравоохранение, «народное здравие», политическая элита, мотивация
Короткий адрес: https://sciup.org/170209109
IDR: 170209109 | УДК: 94:[614.21] | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-1-283-289
Текст научной статьи Проблемы здравоохранения Азиатской окраины в деятельности региональной власти в конце XIX – начале XX в.
О масштабах социально-политических изменений в Восточной Сибири и устремлениях властей можно судить по документальным источникам 1890-х гг., отчетах о ходе выполнения программ 10-летнего развития генерал-губернаторств. Программа Иркутского генерал-губернаторства наметила преобразования и в медицинской части. Современные исследователи отмечают особое сосредоточение генерал-губернатора Александра Дмитриевича Горемыкина (1889–1899) на выполнении пунктов программы, касающихся административных, судебных преобразований, устройства инородческого управления, строительства путей сообщения и дорожной части [Серебряков, Гольдфарб 2021: 35]. Однако следует рассмотреть изменения в сфере здравоохранения, поддержанные и лично инициированные А.Д. Горемыкиным. Острая потребность в медицинских кадрах среднего звена обусловила открытие в Иркутске акушерско-фельдшерской школы. 29 сентября 1890 г. А.Д. Горемыкин обратился к министру внутренних дел В.К. Плеве с ходатайством о содействии в решении этого вопроса. Проект учреждения в Иркутске 3-классной центральной школы фельдшериц для замещения низших врачебных должностей в сельской местности Восточной Сибири получил положительную резолюцию, в 1893 г. фельдшерская школа была открыта.
В 1890-е гг. Восточно-Сибирский регион попал под влияние глобальной политической задачи – строительства и запуска Транссибирской железной дороги. Транссиб стимулировал развитие промышленности, торговли, сельского хозяйства, способствовал росту численности населения региона. В сложившихся условиях возникла необходимость проведения сибирской административной реформы. Так, в 1895 г. произошло преобразование губернских учреждений, что не могло не коснуться сферы здравоохранения. При губернских управлениях были сформированы врачебные отделения во главе с губернскими врачебными инспекторами. По должности они приравнивались к чиновникам V класса, что соответствовало уровню вице-губернатора, оклад годового содержания врачебного инспектора в Енисейской губернии определялся в 2 500 руб., в Иркутской – 2 700 руб. За сибирскую службу назначалось добавочное жалование. Должности врачебных инспекторов в Иркутской губернии занимали Н.Е. Маковецкий и В.П. Никитенко, в Енисейской губернии – П.И. Рачковский и В.А. Белиловский, в Забайкальской области – А.Г. Цитович и А.В. Воскресенский, в Якутской области – В.А. Вонгродский.
Генерал-губернатор Восточной Сибири А.Д. Горемыкин совместно с иркутским врачебным инспектором Н.Е. Маковецким смог реализовать проект реформы сельской врачебной части в Иркутской, Енисейской губерниях и в Якутской области. На Забайкальскую область этот проект не распространялся в силу ее административно-территориальной принадлежности Приморскому генерал-губернаторству с 1884 г. Для Енисейской, Иркутской губерний и Якутской области законопроект, вступивший в силу с 1 января 1898 г., упразднял старое деление на окружных и сельских врачей, в уездах вводилась участковая система. Подобные изменения были серьезной попыткой перенять модель оказания медицинской помощи сельскому населению тех губерний России, на которые распространилась реформа 1864 г. По данным историков В.А. Шаламова и Л.М. Дамешека, в результате реализации нового проекта:
– в Енисейской губернии определялись 22 участковых врача; кроме того, вводились должности врачей в Туруханском крае и в Усинском пограничном округе, т.е. штатом предусматривалось 24 врача. Значительно увеличилось число сельских фельдшеров – с 15 до 48, фельдшериц-акушерок – до 23;
– в Иркутской губернии на 19 участках вводилось соответствующее число врачей, 38 фельдшеров, 19 фельдшериц-акушерок;
– в Якутской области – 10 участковых врачей, 23 фельдшера, 10 фельдшериц-акушерок [Шаламов, Дамешек 2018: 7].
В результате внедрения участкового принципа организации медицинской части на селе число врачей увеличилось на 46,5%, фельдшеров и фельдшериц-акушерок – на 77,2%.
В Забайкальской области, входившей в состав Приамурского генерал-губернаторства, положения реформы были распространены только в 1901 г. Военному губернатору Забайкальской области Евгению Иосифовичу Мациевскому (1893–1901) исторически была отведена роль руководителя области, принявшего непосредственное участие в реализации сибирской реформы, в т.ч. и в реформировании медицинской части Забайкалья. С 1895 г. Мациевский приступил к разработке проекта изменения штатов гражданских медицинских чинов в Забайкальской области. В сопроводительной части проекта Е.И. Мациевский писал: «Иметь одного врача для оказания медицинской помощи на территории в сотни тысяч верст является такой аномалией, которая не может быть более терпима в образованном государстве. Польза от такой помощи равняется нулю, и население вынуждено по-прежнему, т.е. до организации сельской медицины, обращаться к своим доморощенным врачевате- лям, знахарям и знахаркам, которые лечат нашептыванием, заговорами или, что еще хуже, сулемой и разными ядовитыми растениями»1. Подходя к разработке кадрового вопроса, военный губернатор Е.И. Мациевский исходил из того, что на территории почти в 600 000 кв. верст проживали более 600 000 чел., нуждающихся в помощи гражданской медицины (крестьяне, поселенцы, раскольники, казаки, буряты, тунгусы), с преимущественным проживанием в сельской местности. В 1895 г. все население Забайкальской области обслуживалось 41 врачом (с учетом военных врачей), сельское население – 5 сельскими врачами и 15 сельскими фельдшерами. Проект Е.И. Мациевского строился на увеличении жалования и расширении врачебных штатов, но он неоднократно возвращался. В 1898 г. Е.И. Мациевский предложил увеличение штата сельской врачебной части (за счет областного земского сбора), ликвидацию штата неквалифицированных оспенных учеников (за счет увеличения числа фельдшеров). Итоговый расчет Е.И. Мациевского по введению нового штата гражданских медиков Забайкальской области выглядел следующим образом: врачебный инспектор, его помощник, 23 врача, 27 фельдшеров (5 старших и 22 младших), 15 акушерок-фельдшериц (5 старших и 10 младших), 14 повивальных бабок2.
Реформирование здравоохранения Забайкальской области коснулось выбора системы обслуживания населения медицинской помощью. К концу 1890-х гг. в земских губерниях Российской империи медицинская общественность и региональные власти пришли к выводу, что разъездная медицинская помощь имеет значительные недостатки по сравнению со стационарной. В Восточной Сибири подобного опыта не было в силу «неземского» статуса региона, и лишь сибирская реформа 1895 г. позволила применить модель оказания медицинской помощи, существовавшую в центральных губерниях с 1864 г., и сделать управленческий выбор. Е.И. Мациевский писал: «Я склоняюсь в этом вопросе к системе стационарной помощи (устройство нескольких сельских лечебниц)… вся земская медицина европейской России, после долговременного опыта, остановилась исключительно на стационарной системе. Ввиду этого я признал бы более целесообразно устройство в каждом врачебном участке, в месте пребывания врача, по одной сельской лечебнице. ‹…› При существовании лечебниц сельский врач имел бы возможность более широко применять свои врачебные знания, чем при разъездной системе, когда он сегодня здесь, а завтра за 50 верст. Деятельность его в последнем случае свелась бы к раздаче порошков от поноса или кашля, к вскрытию мелких нарывов и т.п. в этом роде»3.
В 1901 г. Е.И. Мациевский представил прошение о расширении сети лечебных учреждений, обосновывая необходимость открыть по 3 больницы в Читинском, Верхнеудинском, Селенгинском уездах, в Баргузинском и Нерченско-Заводском уездах – по 2. Еще в 1899 г. Е.И. Мациевский возбудил ходатайство перед МВД о строительстве психиатрической лечебницы в г. Чите на 125 коек4. Продолжать длительную борьбу за строительство стационара для душевнобольных пришлось последователям Мациевского, что завершилось в 1910 г. открытием лечебницы на 50 коек.
Историк Т.А. Константинова в качестве аргумента, подтверждающего устойчивый авторитет Е.И. Мациевского у читинской интеллигенции, при- водит факты продуктивного сотрудничества губернатора с известными врачами Забайкалья Н.В. Кириловым, П.С. Алексеевым и совместные усилия, направленные на развитие края [Константинова 2001: 65]. Однако известный ученый-антрополог Ю.Д. Талько-Гринцевич, занимавший должность окружного врача в Троицкосавске с 1899 по 1908 г., пронес через годы мнение о Е.И. Мациевском как о «сатрапе» на основании фактов участия генерала в подавлении восстания в Польше.
Преемник Е.И. Мациевского военный губернатор Забайкальской области Иван Павлович Надаров (1901–1904) в исторической литературе получил статус сторонника «антидемократических мер», а короткий период его губернаторства был назван «надаровщиной». С одной стороны, Надаров продолжал начатые Мациевским инициативы по расширению сети медицинских учреждений и выделении штатных должностей врачей и фельдшеров, при нем было принято решение об учреждении школы акушерок-фельдшериц; с другой стороны, Надаров имел непосредственное отношение к прекращению деятельности таких центров объединения читинской интеллигенции, как краеведческий музей и отделение РГО. На примере закрытия музея исследователь Т.А. Константинова дает личностную характеристику И.П. Надарову, сравнивая его с предшественником, и отмечает, что если для Е.И. Мациевского директор краеведческого музея А.К. Кузнецов был подвижником, просветителем, активно творящим добро человеком, то для Надарова – в первую очередь бывшим ссыльнокаторжным. Т.А. Константинова пишет: «Трудно представить, как Надаров, будучи хорошо образованным человеком, мог так мстительно расправиться не только с людьми, а с музеем, который был гордостью всех горожан» [Константинова 2001: 69]. Активным соратником А.К. Кузнецова в деле создания музея был забайкальский врач Н.В. Кирилов, который вместе с врачами В.Я. Кокосовым и П.С. Алексеевым стоял у истоков создания Общества врачей Забайкальской области. По данным К.И. Журавлевой, к 1900 г. деятельность Забайкальского общества врачей стала затухать. В период губернаторства И.П. Надарова Общество прекратило практическую деятельность, а с 1904 г. слилось с Временным медицинским обществом на Дальнем Востоке (г. Чита) [Журавлева 1966: 167]. Безусловно, для развития гражданского здравоохранения это было большой потерей, т.к. основной задачей объединенного общества стали вопросы сугубо военного времени и улучшения военно-санитарного дела.
Период Русско-японской войны для Восточной Сибири стал временем большого напряжения. Согласно планам главного управления Российского общества Красного Креста, Иркутская губерния рассматривалась как «транзитный центр» для возвращавшихся с фронтов военнослужащих. Время требовало создания сети медицинских учреждений. Хронология событий региона пестрит данными по открытию шатровых и стационарных лазаретов, переоснащению зданий под размещение ветеранов, нуждающихся в лечении. С марта 1904 г. по 1 февраля 1906 г. в иркутских лазаретах было размещено более 6 300 чел. В Иркутской губернии организационные мероприятия по созданию военной медицинской помощи легли на плечи иркутского губернатора И.П. Моллериуса (1897–1905, 1906–1908) и иркутского генерал-губернатора графа П.И. Кутайсова. Уже 10 февраля 1904 г. под председательством иркутского губернатора И.П. Моллериуса состоялось Первое заседание дамского комитета Красного Креста, целью которого провозглашалась забота о раненых и больных воинах. Председательницей Иркутского дамского комитета Красного Креста стала супруга губернатора, женщина энергичная и неординарная, обладающая способностью обеспечивать результативность денежных сборов. Так, на первом же заседании дамского комитета по подписному листу Анастасии Петровны Моллериус было собрано 4 665 руб. [Романов 1994: 374].
Комплекс мер, организованный властями Иркутской губернии, был беспрецедентно эффективным даже для регионов с более развитой медицинской инфраструктурой. Уже немолодому иркутскому генерал-губернатору графу Павлу Ипполитовичу Кутайсову (1903–1905) предстояло выстроить работоспособную систему взаимодействия частной инициативы и должностных регламентов в условиях военного времени. В этот период Иркутск постоянно приковывал внимание столичных чиновников. В конце мая 1904 г. в город прибыл главный медицинский инспектор В.К. фон-Анреп. Он посетил Иркутскую Кузнецовскую гражданскую больницу и осмотрел лазареты. В доме генерал-губернатора В.К. фон-Анреп созвал совещание, где основным вопросом была разработка мер против заноса эпидемических заболеваний с Востока. В марте 1905 г. Иркутск посетил главнокомандующий Красного Креста России сенатор П.М. фон-Кауфман, который остался доволен организацией работы отделения Красного Креста в Иркутске. Лазареты Красного Креста в Иркутске во время Русско-японской войны имели колоссальное значение, особенно в период начала компании, поскольку именно они приняли на себя большой поток практически всех эвакуированных солдат, продолжая интенсивно функционировать в виде стационарных лечебных заведений.
Крупными госпитальными центрами были Чита и населенные пункты рядом с горнодобывающими рудниками, а также Иркутск и Красноярск с населенными пунктами, имеющими выход к Транссибирской магистрали. В исследовании Ю.П. Горелова приводятся данные, что в ведении Иркутской эвакуационной комиссии было 9 населенных пунктов, в которых размещались военные лазареты [Горелов 2003: 132-134]. По направлению к Иркутску раненые военнослужащие распределялись также на станциях Кругобайкальской железной дороги: Мысовой, Слюдянке, Танхое, Мурино, Култуке, Маритуе и пр. По окончании войны многие лазареты пополнили сеть медицинских учреждений гражданского ведомства. В этот период развития Восточной Сибири приоритетными задачами здравоохранения стали вопросы военного времени. Сфера «охранения народного здравия» вновь уступила свои позиции.
Таким образом, рассматривая деятельное участие представителей политической элиты Восточно-Сибирского региона в период, охватывающий более полутора веков, можно рассмотреть эволюцию потребностей края и вызовов времени. На разных исторических этапах и в зависимости от персональных качеств личности чиновника реализация медико-социальных мероприятий могла выражаться по-разному – от формального контроля за исполнением циркуляров из центра до инициативных идей с проработанным планом практических преобразований медицинского дела региона. Мотивационные установки представителей власти конца XVIII – начала XIX в., ограниченные кругом санитарно-эпидемиологических задач, рассматривались современниками и летописцами как прогрессивные. С середины XIX в. личностные характеристики регионального чиновничества стали определять появление «центров притяжения» общественной инициативы, способствовать формированию направлений медико-социальной работы. По интенсивности участия чиновничества в развитии здравоохра- нения лидерство сохранялось за Иркутском. Именно в столице Восточной Сибири было сосредоточено большое число чиновников, имевших значительный социокультурный потенциал. Однако в имперский период сфера «народного здравия» в Восточной Сибири не смогла преодолеть разрыв с центральными губерниями страны и определялась как «отсталая и провинциальная». Одного только потенциала высших чиновников края, даже если каждое поколение сменялось новаторами, было недостаточно. Отставание «сибирской медицины» было заложено государственной моделью, при которой окраинным территориям приходилось в начале ХХ в. адаптировать условия и ресурсы по оказанию медицинской помощи и дотягивать их до соответствия здравоохранению Европейской России периода пореформенного развития. Осложняла ситуацию существовавшая в Российской империи многоведомственность медицины, отсутствие централизации. Усугубляли ситуацию и перманентные проблемы, в решении которых прогрессивные представители власти принимали личное участие. Преодоление дефицита кадров, формирование сети больниц, усиление профилактики заболеваний, привлечение региональных ресурсов, реализация задач по сохранению численности населения в условиях «повальных болезней», высокой детской смертности, ранневозрастной утраты трудоспособности – все это представляло масштабное проблемное поле, решение вопросов которого в условиях удаленности от центра увеличивало степень вовлечения региональной власти. Это добавляло к статусу «начальников края» роль новаторов, требовало личной причастности к происходящим процессам.
Список литературы Проблемы здравоохранения Азиатской окраины в деятельности региональной власти в конце XIX – начале XX в.
- Горелов Ю.П. 2003. Сибирская помощь раненым в русско-японскую войну (1904-1905 гг.) - Вестник Кузбасского государственного технического университета. № 4. С. 129-134. EDN: PWLQFP
- Журавлева К.И. 1966. Здравоохранение и здоровье населения Забайкалья (1765-1965 гг.): дис. … д.мед.н. М. 731 с.
- Константинова Т.А. 2001. Губернаторы Забайкалья. 1851-1917 гг. Чита: Госархив. 89 с.
- Романов Н.С. 1994. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство. 560 с.
- Серебряков Е.А., Гольдфарб С.И. 2021. Общественно-политические аспекты деятельности А.Д. Горемыкина на посту иркутского генерал-губернатора. - Известия Иркутского государственного университета. Сер. Политология. Религиоведение. Т. 35. С. 28-37.
- Шаламов В.А., Дамешек Л.М. 2018. Реформа сельско-врачебной части Восточной Сибири 1897 г.: причины, основные положения, последствия. - Гуманитарные науки в Сибири. Т. 25. № 2. С. 5-12. EDN: XQKRJZ