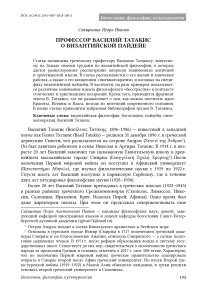Профессор Василий Татакис о византийской пайдейе
Автор: Иванов Игорь Анатольевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Богословие, философия, культурология
Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена греческому профессору Василию Татакису, известному на Западе своими трудами по византийской философии, в которых дается разностороннее рассмотрение вопросов взаимосвязи античной и христианской мысли. В статье рассказывается о его жизни и ключевых работах, а также о его концепции «пневматократии» и взглядах на специфику византийской пайдейи. В частности, на ряде примеров показывается различное понимание идеала философского «бесстрастия» в контексте стоических и христианских воззрений. Кроме того, приводится фрагмент текста В. Татакиса, где он размышляет о том, как можно постигать идеи Красоты, Истины и Блага, исходя из интенций современного сознания. В конце статьи приводится избранная библиография трудов В. Татакиса.
Византийская философия, богословие, пайдейя, пнев- матократия, василий татакис
Короткий адрес: https://sciup.org/140294169
IDR: 140294169 | DOI: 10.24411/2541-9587-2018-10011
Текст научной статьи Профессор Василий Татакис о византийской пайдейе
образование. Так в 1930–32 гг. Татакис учился в университете в Салониках (Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)3. Это было плодотворное время для уже сформировавшегося мыслителя.
В 1934 г. по предложению друга и коллеги — Александра Делмузоса (Αλέξανδρος Δελμούζος, 1880–1956)4 — Татакис стал директором вновь созданной экспериментальной университетской школы в Салониках. Проработав в ней четыре года, он был уволен по политическим мотивам в 1938 г. Тем не менее, это не помешало ему в 1939 г. защитить докторскую диссертацию о родоначальнике среднего стоицизма — Панеции Родосском5, изданную отдельной книгой еще в 1931 г.
В 1939 г. Василий Татакис женился на Марине Креи (Μαρίνα Κρέη, 1910– 1964). В браке родилось две дочери — Ника и Аргира. С 1945 по 1958 г. Тата-кис работал в качестве научного консультанта в Министерстве образования Греции (при этом его дважды увольняли в 1946 и в 1955 гг.). В 1947–1956 гг. он преподавал историю древней и византийской философии6, а также читал курс по современной английской философии и логике в философском обществе Атенеум , основанном Евангелосом Папануцосом (1900–1982)7. В этот период вышли две ключевые книги В. Татакиса: Вопросы христианской и византийской философии 8 (1952) и Учение христианской философии 9 (1967)10.
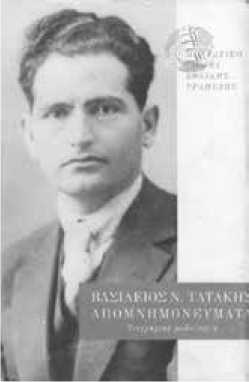
Лицевая сторона обложки книги В. Татакиса «Воспоминания»
В 1958 г. в возрасте 62 лет он был, наконец, избран профессором философии Салоникийского университета и преподавал в нем (в 1962 г. став деканом факультета философии) до своей отставки в 1967 г. Спустя семь лет, в 1974 г., Василий Тата-кис был избран членом Греческого философского общества, а еще через восемь лет его достижения в гуманитарной науке были высоко оценены, что выразилось в присвоении ему Афинской академией звания «Заслуженный деятель исторических и социальных наук» (1982). Василий Татакис отошел ко Господу 2 февраля 1986 г. в Афинах. Ему было 90 лет11.
Обширная книга его воспоминаний была издана в 1993 г.: Βασίλειος Ν. Τατάκης , Απομνημονεύματα. Βιογραφική μυθιστορία , ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993. — 650 σ.
Что касается восприятия его личности и наследия, приведем мнение Линоса Бенакиса: «Общей философской направленностью трудов Татакиса была пневматократия , метафизические основания которой он обозначил еще в своем раннем очерке Проблема истины 12 (1933). Свое внимание Татакис обращал не только на достижения философской мысли Античности (издав множество переводов, комментариев и монографий на эту тему), но и на творческий импульс христианской веры, который проявился также в непрерывной истории греческой философии». Татакису были свойственны образцовое качество речи, методическая выверенность и яркая стилистика, но главным образом, его отличал высокий педагогический идеал и дух подлинного христианского просвещения, в силу которого он всегда защищал живые элементы греческой культуры, сочетая их вековую мудрость с современным опытом и передовыми идеями»13.
Интересно наблюдение Татакиса о соотношении философии и филологии (риторики) в их рецепции христианской мыслью. На примере Элия Аристида (вторая софистика) он показывает позиционирование преференции филологии перед философией: «по Аристиду совершенный человек воспитывается не философией, а риторикой (литературой), развивающей его способности. Именно софисты преподавали в византийской высшей школе. И не стоит забывать, что многие святые отцы были их учениками».
Действительно, византийскими интеллектуалами в деле образования филология зачастую ставилась во главу угла. Характерно, что профессор В. Тата-кис даже особо изучал наследие выдающегося греческого педагога Герасима Влаха (1605–1685), опубликовав в 1973 году работу об этом филологе, философе и богослове14.
Отметим, что филологические труды Г. Влаха отразились и в традиции русского образования. Так известно, что в качестве учебных пособий или материалов для лекций родоначальники российского просвещения Иоанникий и Софроний Лихуды использовали свои рукописные конспекты лекций, которые они посещали в Италии, соответственно Софроний в стенах Падуанского университета, а Иоанникий — у известного дидаскала Герасима Влаха в Венеции. Большая часть этих рукописных материалов находится в отделе рукописей РГБ в собрании Московской духовной академии и в РНБ. Эти материалы в большей степени предназначались для изучения дисциплин, преподававшихся на старших курсах.
В 1687 году Патриарший казенный приказ приобрел для Славяно-греко-латинской Академии 132 книги. Фактически все они предназначены для обучения и характерны для библиотек высших учебных заведений Западной Европы и Греции XV–XVIII столетий. Почти все издания из списка поддаются отождествлению, а отдельные экземпляры приведенных в документе книг сохранились до настоящего времени. Так, например, упомянутый в списке первым «Лексикон Влахов» — это четырехъязычный лексикон, который был завершен Герасимом Влахом в Венеции и там же издан в 1659 г. Под названием «Армонии Влаховы» имеется в виду сочинение Г. Влаха. Книга издана в Венеции в 1661 г., кроме греческого содержит и латинский титульный лист. Среди книг, перечисленных в этой записи, указаны те необходимые пособия по риторике, без которых не могло вестись преподавание этого предмета в высшей школе: «…дватцать четыре Кандитатов латинских риторических в четь… дватцать шесть Аффониева Прогимнасмата латинская в четь… Риторика Аристотелева греко-латинская в четь… Слова Димосфеновы олимбиаческия греколатинския в четь…». Следует отметить, что использование в учебном процессе указанных авторов было характерно и для других учебных заведений Христианского Востока XVII–XVIII вв. Лихуды не могли обойтись и без важнейших грамматических печатных трудов. Среди приобретенных книг два основополагающих учебника греческого языка в XV–XVIII вв. также значатся в списке: это Грамматика Феодора Газы, греческого ученого XV в., и Грамматика Константина Ласкариса, которая была создана во 2–й половине XV в.15
О значении гуманитарных дисциплин в византийской пайдейе В. Тата-кис пишет так: «В Византии прогресс проявлялся в гораздо большей степени в “духовных” науках, нежели в естественных. Так особо он сказался в филологии, истории и более всего — в праве. Эти науки прямым образом служили делу формирования этоса нации и обеспечивали врачевание для острейших социальных недугов. Именно поэтому они преимущественно и интересовали византийцев»16. По сути, наследники ромеев были абсолютно правы в своем здравом и логичном прагматизме — весьма рискованно развивать технические науки, не создав социальных условий для адекватного — духовно- и эти-чески-выверенного — их использования.
В этом плане именно трезвомысленный аскетизм может позиционироваться в качестве фундамента образованности и науки. И так оно и было в Византии. Более того, просвещенное благодатью сердце17 — собственно и было конечной целью византийской пайдейи, воспринявшей еще от античных мудрецов убеждение, что «науки — это всего лишь средство, этап на пути к первой философии , к метафизике»18. В самом деле, главенство духовных приоритетов над материальными благами и техническими достижениями (а они реально существовали в Византии и до определенного времени были на уровень выше достижений окружающих цивилизаций) было осознанной и последовательной установкой на «пневматократию» в общественном устроении. И здесь возникает вопрос о связи философии-этики и мистики-аскетики в византийском менталитете.
Приведем несколько цитат из размышлений Татакиса о связи аскетики и философии, в частности кинизма и стоицизма из главы про византийский мистицизм19:
«Огромное число христиан, количество которых все более возрастало, с любовью обращались к монашескому образу жизни и приходили в монастыри — «города ангелов» (πόλεις των αγγέλων), как их тогда называли, — и вели жизнь «пустынников» и «отшельников» или жили в пещерах, куда приходили многие или подвизались на верху столпов древних зданий. Они искали того, чтобы полностью отрешиться от попечений мирской жизни, дабы обеспечить себя благоприятными условиями, создать своего рода «школу» (σχολή) и благоприятную среду, которая позволит им посвящать себя достижению совершенства. Потребовались годы для того, чтобы монашество получило таковые большие возможности для развития и приобрело огромное нравственное влияние, которое стало настолько велико, что императоры и патриархи должны были иметь в виду мнение монахов в решении крупных церковных религиозных и даже политических вопросах…»20.
«…В мышлении подвижника есть, как мы уже говорили ранее, многочисленные элементы из произведений киников и учения о добродетели стоиков и неоплатонической теории об отвращении к материи. Однако Лествица не является возрождением деятельно–практического учения древних философов. Совершенно излишне и неверно полагать, что все древнегреческие воззрения теперь были усвоены христианством. Основные добродетели теперь это вера, надежда и любовь. И самая большая из них, говорит Лествица, это любовь.
Признаком чистой души является непрестанная любовь к Богу. Соединенная с Богом душа посредством непорочности и чистоты она не имеет нужды в научении со стороны… Итак, человек достигает Бога не путем диалектических рассуждений, то есть через разум, а прилепляясь к Нему всей душой через любовь»21.
«…Мы сказали, что Лествица часто напоминает о стоиках и киниках. Пределом блага и любви для стоиков было преимущественно бесстрастие, невозмутимость души, что позволяет владычественному, то есть уму быть совершенно сосредоточенным, не развлекаемым, действительно величественным. Но согласно Лествице бесстрастие является последней высочайшей ступенью. Благодаря этому, человек умертвляет свои телесные члены, но он умертвляет не только их, но и ум свой, а также свое эгоистическое начало и достигает высшей степени послушания. Для стоиков бесстрастие это — конечная цель, достижение человеком совершенства. Тогда человек принимает свою судьбу без всякого протеста, добровольно сопрягается с ритмом мира, с той ролью, которую ему определил стоический Логос (Зевс). И если он видит, как говорят стоики, что Слово ему определило быть царем, то он принимает роль царя, а если же видит, что ему определено быть бродячим циркачом, то он и это принимает. Такое добровольное принятие и терпение является пределом мудрости стоиков. Для подвижников же согласно Лествице бесстрастие не является ни конечной точкой, ни целью, но только средством. Оно является таким адекватным состоянием, которого достигает деятельный человек, поскольку он делает то, что может, то, что в его силах. Это завершение его подготовки, не ради стяжания стойкости и терпения, но для того, чтобы превзойти самого себя, чтобы принять в себя свет, благодать Божию, чтобы «стоять и ходить» пред Богом. Это является предварением обожения, которого, собственно, и взыскует мистик. Обожение — это состояние, которое в силу сотворения человека “по подобию”, конечно же, достигается сугубо “по благодати”, а не “по сущности” (Θέωση “καθ’ομοίωσιν”, βέβαια, “κατά θείαν χάριν”, όχι “κατ’ ουσίαν”)»22.
Здесь можно отметить, что Иоанн Лествичник в некоторых источниках называется схоластом и ритором23, что лишний раз подтверждает приоритет риторического мышления над философским в византийской пайдейе, целью которой является гармоничное воспитание тонко чувствующей слово и смысл души.
В качестве примера такового гармоничного устроения мысли Василия Та-такиса приведем фрагмент из его книги Цель человека :
Поразмыслим о словах святителя Григория Богослова: «В нас, по скудости в прекрасном, природа всегда жаждет того, в чем имеет нужду, и это желание недостающего нам есть само вожделевательное расположение нашего естества». ( Григорий Нисский , свт . О душе и воскресении. PG. Т. 46, С. 92). Этот краткий отрывок содержит глубокий и точный диагноз природы человека. Давайте рассмотрим его. Все описываемое здесь есть следствие обращения в себя. Поскольку, как говорит святой Григорий, наша природа страдает «по скудости в прекрасном», она с жадностью бросается к тому, в чем имеет нужду, то есть к прекрасному — ко благу. И поскольку это так, то «вожделева-тельное расположение» нашего естества, его содержание и цель есть желание того, чего ему недостает.
«Скудность в прекрасном» — это не просто констатация факта, но и подтверждение того, что природа человека осознала эту свою «скудность». Это также означает, что «прекрасное» составляет сущность человека, является завершением его естества. И потому человек — охотник за прекрасным — всегда с жадностью бросается к нему. Бросается, но не может воспринять его полностью.
Так мы сбиваемся с верного пути по восполнению нашей скудности, и «прекрасное» остается в своей полноте недостижимым для человека. И все же человеческая жизнь приобретает свой подлинный смысл лишь настолько, насколько ее «вожделевательное расположение» составляет желание прекрасного, ибо, только вкусит его человек, так сразу понимает, сколь оно ему необходимо.
Именно так метафизически обосновывается духовная природа человека. Ее корень и сущность есть желание прекрасного. И поскольку мы жаждем того, чего нам не хватает, метафизическое обоснование зиждется на плодотворном осознании этой нашей нужды. Именно осознание скудости нашей в «прекрасном» возносит человека к Вратам «вечно недостающего». Так, благословенная нужда открывает путь к обожению. Человек пытается походить на Бога, являющегося для него и Высшим Абсолютом, и Прекрасным Благом.
Если же мы после всего этого обратимся к современному человеку, то мы без труда обнаружим, что он погружен, главным образом, в изучение внешних предметов и изобретение технических средств как для их исследования, так и для удовлетворения своих желаний. Желаний, целью которых является не «прекрасное», но благополучие человека. Ему не хватает обращения внутрь, ведущего к метафизическому постижению его собственной природы как нужды прекрасного. Стало быть, ему не хватает важнейшего компонента осуществления его духовной природы. И потому современному человеку, дабы избежать бурного моря, а еще точнее — хаоса нигилизма, куда влечет его поверхностное стремление к благополучию, необходимо вновь обратиться внутрь себя и открыть метафизические глубины своей природы, вновь обрести в себе очищающее и спасающее стремление к прекрасному. И тогда найдут себе оправдания и наука, и техника, и человек вновь обретет себя как метафизическое сознание, а не как трансцендентный разум, как того хотел Кант. И тогда в нем вновь возгорится свет духовности.
И да будет мне позволено в этой связи подчеркнуть, что главной своей задачей философия должна считать освобождение человека от его собственных достижений, дабы, отрешившись и став независимым от них, он смог бы сам управлять своим духовным развитием. Только так человек станет готов постичь метафизические глубины своего бытия. Именно это имел в виду великий физик Р. Оппенгеймер, говоря: «Нам нужны философы, а не ученые, ибо истина — удел мудрости, а не науки»24.
В другом месте Василий Татакис так выражает суть византийской пайдейи, основанной на греческом богословско-философском синтезе: «Однако основным средством формирования личности остается слово. Поэтому необходимо, бдительно осуществлять свою логосность-логику-диалектику, будучи наученным тому, чтобы всегда быть в состоянии различать — в сложных жизненных условиях и ситуациях — требования Блага»25. Более того, именно христианская практическая философия как философия духовного делания приводит человека к вершинам самосознания через опыт священного и навык духовной борьбы26. Очевидно, что такой расстановки акцентов современная секулярная философская традиция старается избегать (по тем или иным причинам), но, при рассмотрении взглядов Василия Татакиса, создается впечатление, что именно такой путь духовного делания способен вывести живую мысль на просторы подлинной Человечности и выявления адекватных мировоззренческих ориентиров.
В завершение этой краткой статьи о почти неизвестном в России выдающемся греческом богослове и философе ХХ века, фактически ставшем образцом живой византийской культурной традиции в пост-византийском мире, приведем библиографию его трудов с целью дальнейшего их введения в научный и культурный оборот современной отечественной гуманитаристики.
Избранная библиография трудов В. Татакиса
Книги:
Panétius de Rhodes. Le fondateur du moyen Stoicisme. Sa vie et son oeuvre, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1931, 234 p.
Στὴ χώρα τῶν στοχασμῶν. Φιλοσοφικὸς διάλογος, Θεσσαλονίκη, Περιοδικὸ, 1936, 93 σ.
Διαίρεση–Μερισμός. Φιλοσοφικὰ μελετήματα, Θεσσαλονίκη, 1940, 33 σ.
La philosophie byzantine, Paris, 1949, 324 p.
Θέματα χριστιανικῆς καὶ βυζαντινῆς φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1952, 208 σ.
Ἡ συμβολὴ τῆς Καππαδοκίας στὴ χριστιανικὴ σκέψη, Ἀθήνα, Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, 1960, 283 σ.
Κοινωνία καὶ προσωπικότητα, Θεσσαλονίκη, 1961, 14 σ.
Λογική, Θεσσαλονίκη, Σύλλογος Φοιτητῶν Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, 1963, 56 σ.
Λογική, Θεσσαλονίκη, Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1966, 244 σ.
Μελετήματα Χριστιανικῆς Φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Ἀστὴρ», 1967, 211 σ.
Φιλοσοφικὰ μελετήματα, Ἀθὴνα, Ἑρμῆς, 1972, 83 σ.
Γεράσιμος Βλάχος ὁ Κρὴς (1605/7–1685), Βενετία, 1973, 162 σ.
Σκέψη καὶ ἐλευθερία, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Ἀστὴρ», 1975, 323 σ.
Ὁ Σωκράτης. Ἡ ζωή του, ἡ διδασκαλία του, Ἀθῆναι, Ἀστὴρ, 1975, 147 σ.
Παιδείας, 1977, 378 σ.
Παιδαγωγική, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Ἀστήρ», 1978, 152 σ.
Μελέτες Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας. Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ Βυζάντιο, Ἀθήνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1980, 213 σ.
Ὁ Σωκράτης. Ἡ ζωή του, ἡ διδασκαλία του, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Ἀστὴρ», 1983, 150 σ.
Ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθὴνα, Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων, 1984, 69 σ.
Στὴ χώρα τῶν στοχασμῶν. Φιλοσοφικὸς διάλογος, Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὸς Οἶκος «Ἀστὴρ», 1985, 103 σ.
Ἀνησυχίες τῆς ἐποχῆς μας, Ἀθήνα, Ἀστρολάβος / Εὐθύνη, 1988, 190 σ.
Ἀπομνημονεύματα, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1993, 671 σ.
Παραγωγή — Ἐπαγωγή. Φιλοσοφικὰ μελετήματα, Ἀθήνα, Ἴκαρος, χ.χ., 39 σ.
Статьи:
Δύο ἀνέκδοτα παραμύθια // Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1927), σσ. 119–120.
Νοσταλγία // Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1927), σ. 94.
Μία διαθήκη τοῦ 1764 // Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1927), σσ. 75–76.
Παραμυθόλογα τῆς Ἄνδρου. Παρμένα ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λαοῦ // Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1929), σσ. 91–94.
Νεκρανάσταση — Vox Rerum — Ἔρως καὶ Μέλισσα — Ναναρίσματα // Ἀνδριτύτιον Ἡμερολόγιον (1929), σσ. 80, 117, 39, 160.
Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας // Ἰδέα, 11, 10 (1933), σσ. 209–221.
Οἱ Κυνικοὶ καὶ ἡ διατριβὴ ΙΙ // Μακεδονικὲς Ἡμέρες, 2 (1935), σσ. 64–69.
Οἱ Κυνικοὶ καὶ ἡ διατριβή // Μακεδονικὲς Ἡμέρες, 1 (1935), σσ. 9–12.
Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμός // Μακεδονικὸν Ἡμερολόγιον (1936), σσ. 237–240.
Ὁ Θεόφιλος Καΐρης καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ σκέψη // Παιδεία, 2 (1946), σσ. 83–89.
Ὁ Θεόφιλος Καΐρης καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ σκέψη // Παιδεία, 1 (1946), σσ. 18–24.
Κομνηνοῦ — Κακριδῆ Ὄλγα, “Σχέδιο καὶ τεχνικὴ τῆς Ἰλιάδας” // Νέα Ἑστία, 41, 475 (1947), σσ. 510–511.
Θεοδωρακόπουλος Ἰωάννης Ν., “Πλάτωνος Φαῖδρος” / Εἰσαγωγή, ἀρχαῖο καὶ νέο κείμενο μὲ σχόλια // Νέα Ἑστία, 43, 503 (1948), σσ. 797–798.
Παπανοῦτσος Ε. Π., “Ἠθική” // Νέα Ἑστία, 46, 536 (1949), σσ. 1438–1439.
Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὸ πρόβλημα τῆς μεθόδου // Παιδεία, 51 (1950), σσ. 483–487.
Δελμοῦζος Α., “Τὸ κρυφὸ σκολειὸ 1908–1911”, Ἀθήνα, 1950, 323 σ. // Νέα Ἑστία, 49, 571 (1951), σσ. 559–561.
Ἐμὶλ Μπρεγιὲ (Emile Bréhier) [1877–1952] // Νέα Ἑστία, 51, 592 (1952), σσ. 334–336.
Ὁ δάσκαλος // Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄–Ε΄], 2, 18–19 (1953), σσ. 171–175.
Aristote critiqué par Théodoros Métochitès (Θεόδωρος Μετοχίτης) (1260–1332 après J.-C.) // Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, Athènes, 1953, σσ. 1–7.
Ἀνέκδοτα καϊρικὰ κείμενα // Νέα Ἑστία, 54, 626 (1953), σσ. 1089–1101.
Γράμματα Μικρασιατῶν πρὸς τὸν Θεόφιλο Καΐρη // Μικρασιατικὰ Χρονικά, 6 (1955), σσ. 101–136.
Καταρτζῆς Δ., “Ἐγκώμιο τοῦ φιλοσόφου, μακαρισμὸς τοῦ ὀρθόδοξου, ψόγος τοῦ ἄθεου, ταλάνισμα τοῦ δεισιδαίμων”, Ἀθήνα, Ἔκδ., σχόλ., Κ. Θ. Δημαρᾶς, 1955 // Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄–Ε΄], 5, 49 (1956), σσ. 125–126.
Ὁ διάλογος τοῦ χριστιανικοῦ μὲ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα // Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 12, 48 (1958), σσ. 179–189.
Ἡ ἀνοδικὴ πορεία στὴ χριστιανικὴ σκέψη // Γνώσεις, 2 (1958), σσ. 75–80.
Ἡ πνευματική του πορεία // Νέα Ἑστία, 63, 738 (1958), σσ. 471–478.
Ἡ ἀνοδικὴ πορεία στὴ χριστιανικὴ σκέψη Β΄ // Γνώσεις, 4 (1958), σσ. 48–57.
Ἡ μνήμη τοῦ ἔργου του // Νέα Ἑστία, 64, 750 (1958), σσ. 1414–1415.
Ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ μηχανή // Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄–Ι΄], 7, 64 (1958), σσ. 14–17.
Πολίτης, Λίνος, Τσοπανάκης, Ἀγαπητὸς Γ., «Ἀλέξανδρος Δελμοῦζος » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄–Ι΄], 8, 78 (1959), σσ. 170–181.
L’elemento estetico nel pensiero dei Padri cappadoci // Rivista di estetica, 6 (1961), σσ. 220–226.
Τὸ φαινόμενο Πασκάλ // Νέα Ἑστία, 72, 847 (1962), σσ. 1455–1458.
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Μεθοδολογικά / Ἀθωνικὴ Πολιτεία ἐπὶ τῇ χιλιετηρίδι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Θεσσαλονίκη, 1963, σσ. 3–11.
“Ἡ Νέα Θεότης” . Εἶναι ἡ θρησκεία δρόμος ὅπου ὁ ἄνθρωπος χειραγωγεῖται ἀπὸ μέτρα ποὺ τὸν ὑπερβαίνουν // Ἐποχές [τεύχη 1–14], 8 (1963), σσ. 21–24.
Ἡ ἀγωγὴ τῶν τάσεων // Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 17, 65 (1963), σσ. 3–16.
Οἱ ἀρχὲς καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Στωϊκῆς ἠθικῆς // Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 17, 67 (1963), σσ. 3–12.
“Πόσο ἐλεύθερος εἶναι ὁ ἐλεύθερος;” // Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 72 (1964), σσ. 181–191.
Εἰρήνη Παϊδούση. Ἡ παιδαγωγική της δράση // Ἐποχές [τεύχη 36–48], 37 (1966), σσ. 459–462.
Ἀπόψεις γιὰ προσδιορισμὸ τῆς φιλοσοφίας // Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 9(1965), σσ. 115–124.
Εἰρήνη Παϊδούση: ἡ παιδαγωγική της δράση // Ἐποχές [τεύχη 36–48], 37 (1966), σσ. 459–462.
Φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις τῆς χριστιανικῆς ρητορικῆς τῆς ἑλληνικῆς Ἀνατολῆς // Χρονικὰ Αἰσθητικῆς — Annales d’ esthétique, 6–7 (1967–1968), σσ. 83–93.
Ὁ Φώτιος ὡς φιλόσοφος // Byzantinische Forschungen, 3 (1968), σσ. 185–190.
Νικηφόρος μοναχὸς ἡσυχαστής // Κληρονομία, 1, 2 (1969), σσ. 325–336.
La logique stoiciene et la nouvelle logique contemporaine / Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Κυπρολογικοῦ Συνεδρίου, Διεθνὲς Κυπρολογικὸ Συνέδριο, Λευκωσία, 1972, σσ. 259–264.
Ἀπόψεις γιὰ τὴν κατάφαση // Φιλοσοφία, 2 (1972), σσ. 100–106.
Τὸ φυσικὸ ὡραῖο // Εὐθύνη, 18 (1973), σσ. 289–292.
Προβλήματα τῆς ἀνώτατης παιδείας // Εὐθύνη, 17 (1973), σσ. 257–260.
Τὸ ἐρώτημα περὶ Θεοῦ // Εὐθύνη, 28 (1974), σσ. 156–158.
Δημοκρατία καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια // Εὐθύνη, 41 (1975), σσ. 198–199.
Ἡ ἑλληνικὴ πατερικὴ καὶ βυζαντινὴ φιλοσοφία // Δευκαλίων, 14 (1975), σσ. 146–202.
Ἀπόψεις γιὰ τὴν ἠθικὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου // Φιλοσοφία, 5–6 (1975–1976), σσ. 31–58.
Φιλοσοφία καὶ Ἐπιστήμη // Ἐποπτεία, 1 (1976), σσ. 39–41.
La forza mistica dell’ anima e la sua opera // Simposio Cristiano, 2 (1976), σσ. 53–107.
Δημοκρατία καὶ ὁλοκληρωτισμός // Ἐλεύθερη Γενιά, 16 (1977), σ. 25.
Τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας // Ἐλεύθερη Γενιά, 25 (1978), σσ. 3–5.
Ὁ σεβασμὸς στὸν ἄνθρωπο // Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Α.Σ.Β.Θ., 7(1978), σσ. 321–328.
Τὸ φυσικὸ περιβάλλον μας // Εὐθύνη, φ. 96 (1979), σσ. 595–596.
Γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὸν Μαρξισμό // Εὐθύνη, 88 (1979), σσ. 153–154.
Τὸ νόημα τῆς ἐλευθερίας σήμερα // Εὐθύνη, 100 (1980), σ. 261.
Ἡ Λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ ἡ πορεία της κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους / Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου, Ἀριστοτέλης, Θεσσαλονίκη, 1982, σσ. 247–252.
Ἀποχαιρετισμὸς ἀπὸ τὴ φιλοσοφία // Εὐθύνη, 137 (1983), σσ. 257–261.
Θεόφιλος Καΐρης // Διαβάζω, 106 (1984), σσ. 20–21.
Μία διαθήκη τοῦ 1812 // Μικρασιατικὰ Χρονικά, 4 (1984), σσ. 82–83.
Ἕνα πρόβλημα τῶν θετικιστῶν // Εὐθύνη, 152 (1984), σσ. 377–378.
Статьи, вышедшие посмертно:
Ἀνάμνηση τοῦ Γρυπάρη // Εὐθύνη, 218 (1990), σσ. 49–50.
Ἡ γνωριμία μὲ τὸν Ψυχάρη // Εὐθύνη, 231 (1991), σσ. 113–115.
Τὸ αἰσθητικὸ στοιχεῖο στὴ σκέψη τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων // Χρονικὰ Αἰσθητικῆς — Annales d’ esthétique, 33 (1994), σσ. 181–189.
Μικρὰ κείμενα γιὰ τὴν Ἄνδρο καὶ τὴν Σμύρνη καὶ δύο ἄγνωστες συνεντεύξεις // Πρακτικὰ Ἡμερίδας, Μνήμη Βασιλείου Ν. Τατάκη (1896–1986), Ἄνδρος, 2002, σσ. 67–104.
Переводы на английский язык :
Tatakis B . Byzantine philosophy / translated with introduction by Nicholas J. Moutafakis, Indianapolis (Ind.): Hackett Publ., 2003 — 425 p.
Tatakis B . Christian Philosophy in the Patristic and Byzantine Tradition / translated with introduction by protopresbyter George D. Dragas, Orthodox Research Institute Publ. New Hampshire, 2007 — 334 p.
Список литературы Профессор Василий Татакис о византийской пайдейе
- Рамазанова Д. Н. Рукописная и печатная книга в учебной практике Славяно-греко-латинской академии в конце XVII в // «В России надо жить по книге»:начальное обучение чтению и письму (становление учебной книги в XVI-XIX вв.).Сб. науч. ст. и матер. / Под ред. М. В. Тендряковой и В. Г. Безрогова. (Труды семи-нара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 17). М.: Памятники исторической мысли, 2015. С. 42-52.
- Βίγκλας Κ. Βασίλειος Τατάκης. Ο εισηγητής της σπουδής της βυζαντινήςφιλοσοφίας // Ιστορικα Θεματα, τεύχ. 136, Μάρτιος 2014, σσ. 86-99.
- Μπενάκη Λ. Μνήμη Βασιλείου Ν. Τατάκη: 1896-1986: Εργογραφία Βασιλείου Ν.Τατάκη // Ανδριακά Χρονικά, No 33. Ανδρος 2002.
- Τατάκη Β. Θέματα χριστιανικῆς καὶ βυζαντινῆς φιλοσοφίας, Ἀθῆναι, ἈποστολικὴΔιακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1952.
- Τατάκη Β. Απομνημονεύματα. Βιογραφική μυθιστορία, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993.
- Τατάκη Β. πορεία τοῦ ἀνθρώπου, Ἀθὴνα, 1984.
- Τατάκη Β. συμβολή τῆς Καππαδοκίας στή Χριστιανική σκέψη, Ἀθήνα, 1960.