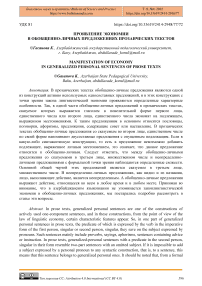Проявление экономии в обобщенно-личных предложениях прозаических текстов
Автор: Гасанова Кнуль
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.8, 2022 года.
Бесплатный доступ
В прозаических текстах обобщенно-личные предложения являются одной из конструкций активно используемых односоставных предложений, и в этих конструкциях с точки зрения закона лингвистической экономии проявляются определенные характерные особенности. Так, в одной части обобщенно-личных предложений в прозаических текстах, сказуемое которых выражается глаголом в повелительной форме первого лица, единственного числа или второго лица, единственного числа экономят на подлежащем, выраженном местоимениями. К таким предложениям в основном относятся пословицы, поговорки, афоризмы, предложения, содержащие совет или наставление. В прозаических текстах обобщенно-личные предложения со сказуемым во втором лице, единственном числе по своей форме напоминают двусоставные предложения с опущенным подлежащим. Если в какую-либо синтаксическую конструкцию, то есть в предложение невозможно добавить подлежащее, выраженное личным местоимением, это означает, что данное предложение относится к обобщенно-личным. Следует отметить, что между обобщенно-личными предложения со сказуемыми в третьем лице, множественном числе и неопределенно-личными предложениями с формальной точки зрения наблюдаются определенные схожести. Основной общей чертой этих предложений является сказуемое в третьем лице, множественном числе. В неопределенно-личных предложениях, как видно и из названия, лицо, выполняющее действие, является неопределенным. А обобщенно-личные предложения выражают действие, относящееся ко всем в любое время и в любом месте. Принимая во внимание, что в азербайджанском языкознании не упоминается законлингвистической экономии в обобщенно-личных предложениях, мы постарались подробно рассмотреть в статье эти вопросы.
Прозаические тексты, обобщенно-личные предложения, экономия, лингвистический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14123501
IDR: 14123501 | УДК: 81
Текст научной статьи Проявление экономии в обобщенно-личных предложениях прозаических текстов
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 81
Одной их синтаксических конструкций, служащих описательной гибкости в прозаических текстах, являются обобщенно-личные предложения, и, будучи одним из видов односоставных предложений, они составляют в основном пословицы и поговорки. Начиная с древних времен создатели фольклора произносили мудрые мысли в сжатой, лаконичной форме, сумев с помощью малого количества слов создать ясные, насыщенные и впечатляющие образцы. Некоторые из этих пословиц и поговорок в связи со своей склонностью к экономии закрепились как неполные предложения. «Но такие неполные предложения отличаются от обычных неполных предложений по качеству. В некоторых случаях созвучие, ритм, рифма, художественное обобщение и образность во фразеологических единицах служат причиной опущения повторяющегося сказуемого или его окончания, и выраженная здесь мысль преподносится в сжатой, ясной и впечатляющей форме» [1, c. 144]. Обобщенно-личные предложения, состоящие из пословиц и поговорок, сформированных на основе принципа экономии, непосредственно связаны и зависят от семантических свойств прозаических текстов. Например: Вопрос показался Имдаду очень странным и забавным:
– Səbəbi aydındır. Bizlərdə deyərlər: düşmən səni daşla, sən düşməniaşla...(Причина ясна. У нас говорят: Враг тебя камнем, а ты его пловом…) [2, c. 101];...Muxtar arada söz gəzdirir, birinin üstünə beşini qoyub, bundan ona, ondan buna deyərdi. Atalar sözüdür: qazan altdan köz, adamaltdan söz....dostlar bir-birinin kölgəsini qılınclamaq dərəcəsinə gəlirdilər (…Мухтар разводил сплетни, раздувая каждое слово, разносил его от одного к другому. Есть такая пословица: Угли из-под кастрюли, слово из-под человека… друзья доходили до той стадии, что готовы были разрубить тени друг друга) [2, c. 203].
Из структуры каждого синтаксического целого ясно видно, что в первом было сэкономлено (опущено) сказуемое “qarşıla” (“встречай”), а во втором морфологический показатель “dır” (равноценно значению слова “есть”) на конце слов. Главной причиной этого является избежание повторного использования этих слов и окончаний в обоих компонентах пословиц. Также из общего содержания данных пословиц мы видим, что оба фольклорных материала по своей сути имеют широкие семантические оттенки.
В прозаических текстах пословицы и поговорки, можно сказать, в большинстве случаев по своему содержанию имеют тесную семантическую связь с речью повествователя, то есть в зависимости от художественной цели писателя, несмотряна сокращение некоторых слов в их составе, художественная мысль выражается в форме приказа. Например: Bəlkə gəlib ki, gic, dəli çekmitaya qizina baş çəkməyə? –Ziyarət....ticarət məsələsi (Может пришел навестить свою блажную, сумасшедшую дочку? – Как говорится, визит ... торговля)4 [3, c. 99].
Из слов, используемых после вопросительного предложения, сразу чувствуется, что писатель утвердил свою художественную мысль с помощью поговорки Həm ziyarət, həm ticarət [дословно: И визит, и торговля. Значение: пользуясь случаем] и целенаправленно опустил в каждом компоненте фразы союз “и”, чем сформировал экономию. Несмотря на это внимательному читателю не составляет особой трудности определить функциональную структуру и элементы поговорки и заново восстановить их в абстракной форме. На языке прозы в пословицах и поговорках, как целых, так и подвергшихся сокращению, «...мысль выражается в приказной, императивной форме» [4, c. 181], то есть функциональная структура поговорки, использованной в составе вышеприведенного предложения, вместе со всеми элементами служит вынесению приговора, универсализации, выраженной в форме приказа.
В обогащении фразеологии нашего языка часть пословиц и поговорок играют особую роль и «... малая часть пословиц и поговорок нашего языка выступает как полная составная часть речи автора. Обладающие эти признаком уже вошли во фразеологическую систему языка и превратились в один из источников его обогащения» [5, c. 40]. Как закономерное состояние нашего языка, в структурах этих пословиц и поговорок произошли определенные изменения в соответствии с принципом экономии, благодаря опущению некоторых слов в этих фразах, были сформированы фразеологические единицы. Например: Пословица “ Tülkü tülkülüyünü sübut edincə dərisini boğazından çıxararlar ” (После того как лиса докажет свою сущность, ее шкуру сдирают через горло) [6, c. 17] является мудрым изречением, состоящим из 7 лексических единиц. Из этого изречения были опущены определенные слова и сформирована фразеологическая единица из 3 слов “dərisini boğazından çıxarmaq” (содрать шкуру через горло). Вне художественного текста пословица “Tülkü tülkülüyünü sübut edincə dərisini boğazından çıxararlar” по своему содержанию и структуре имеет завершенную форму, то есть поэтическое, императивное суждение как по содержанию, так и по выражению, по семантическому плану — полное. Для фразеологической единицы “dərisini boğazından çıxarmaq”, созданной на основе этого изречения, обязательно нужен художественный контекст. Например: –Mənim adıma Qara Nəbi ilə topladığım şeylər haradadır? Deməsən, dərini boğazından çıxaracağam! (Где те вещи, которые мы собрали на мое имя вместе с Кара Неби? Если не скажешь, то содру с тебя шкуру) [5, c. 41]. По фразеологической единице “dərisini boğazından çıxarmaq”, употребленной в составе предложения, сразу становится очевидно, что художественное выражение, “заключая в содержании ультиматум” [7, c. 12], имеет предостерегающий характер.
В нашем языке из пословицы “Namərdin çörəyi dizinin üstündə olar” [6, c. 15] была создана фразеологическая единица çörəyi dizinin üstündə olmaq, из “ Sözü bütövdür, özü yarımçıq ” –sözü bütöv , из “ Üz vermə astar da istər ” [6, c. 73] -üzvermək, из “ Aşı bişirən yağdır, gəlinin üzü ağdır ” (6,75) - üzü ağ olmaq, из “ Qaz vur qazan dolsun, sərçədən nə çıxar ” [6, c. 83] — “qaz vur qazan dolsun”, из “ Hesabı doğru olanın alnı açıq ola r” (6,66) -alnı açıq olmaq, из “ Kasıbın gözü tox olar ”[6, c. 90] – gözü tox olmaq, сокращения в которых произошли в соотвествии с явлением экономии.
Употребление в художественном тексте фразеологических единиц, созданных на основе пословиц и поговорок и, несомненно, подвергшихся определенным операциям, сильно влияет на передачу мысли в образной форме. Кроме этого, в нашем языке существуют некоторые пословицы и поговорки, прошедшие через тысячи лет, и с периода создания этих мудрых изречений в их составе были сделаны сокращения для избежания повтора, к этим выражениям был применен закон экономии. Например: O, qəzəbli bir tərzdə dedi: - İlanın ağına da lənət, qarasına da [3, c. 108]; Gecə yarısına qədər davam edən söhbətə o, yekun vurdu:-Söz sözü gətirər, arşın bezi-deyib ayağa qalxmağı təklif etdi [2, c. 201]; Anlayana da can qurban, anlamayana da, dad yarımçıq əlindən [6, c. 35]. (Он гневно сказал: – Пусть будет проклята и черная и белая змея. [3, c. 108]; Он завершил разговор, продолжавшийся до полуночи: — Слова хороши, если они коротки (Дословный перевод: Слово приведет за собой слово, а аршин –бязь). — и предложил расходиться [2, c. 201]; Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит (Дословно: жизнь отдам и за того, кто поймет, и за того, кто не поймет — будетон невеждой)] [6, c. 35].
В первом примере во втором компоненте пословицы опущено слово lənət ( проклята ), во втором — глагол gətirər ( приведет ), в третьем – выражение can qurban ( жизнь отдам ), но несмотря на это читатель подсознательно может восстановить их на своих местах. Во время общения в одном и том же значении используются как полные варианты этих пословиц, так и сокращенные: “ ağına, qarasına lənət ” в первом, “ dad yarımçıq əlindən ” во втором, “ söz sözü gətirər ” в третьем примере. Но характеризирующиеся такими свойствами предложения остаются сокращенными вариантами пословиц и поговорок, так как не меняются по лицам и, следовательно, по содержанию и форме не обладают качествами, присущими фразеологическим единицам, то есть не превращаются непосредственно в составную часть суждения. Большинство пословиц и поговорок, используемых в прозаических текстах мастерами слова, имею структуру обобщенно-личного простого предложения. Наши исследования показывают, что некоторые из них, имеющих прямое значение, при употреблении в переносном значении и подвергании структурным изменениям преобразуются во фразеологические единицы. Например: рассмотрим пословицу İsti aşa soyuq su qatmazlar. Прямое значение этого мудрого изречения как раз состоит в рекомендации не добавлять холодную воду в горячий плов, потому что при выполнении этого действия вкус блюда меняется в худшую сторону. Поэтому при необходимости советуют подливать в горячий плов горячую воду. Но в нашем языке это выражение используется как в прямом, так и в переносном значении. Переносное значение этого выражения состоит в том, что придя к какому-либо соглашению при выполнении определенного дела, нельзя разрешать третьим лицам вмешиваться и служить причиной нарушения соглашения. Для выражения этого значения в строении данного фольклорного образца делается определенное изменение: “в связи с содержанием выражаемой мысли в предложение вводится подлежащее, состоящее из всех трех лиц (существительное или личное местоимение). Таким образом, обобщенноличное предложение наряду с выражением переносного значения по строению превращается в определенно — личное. Например: как в предложении –Sən mənim isti aşına soyuq su qatma ” (Ты не суй свой нос в мои дела) [5, c. 42].
На языке прозы пословицы и поговорки как смоделированный языковой материал актуализируются в большинстве случаев, после совершенного с ними сокращения они представляют собой серьезный творческий акт и приобретают важные структурносемантические возможности. Например, в народе часто используется пословица Yetmişində öyrənən gorunda çalar (Старого учить, что мертвого лечить). Иногда писатель в связи с психологическим состоянием персонажа намеренно сокращает второй компонент этой пословицы, то есть опускает часть “....gorunda çalar” (...что мертвого лечить): Nədi mənası.
Deyir yetmişində öyrənən... Mən də ömrümün bu axır çağında öyrənim ki, bəlkə inkir-minkirə bir cavab verə bildim. (Какая разница. Как говорится, старого учить...Но я буду учиться на закате своей жизни, может смогу дать ответы Мункару и Накиру) [8, c. 323].
Как мы видим, данные пословицы, хоть и в неполном виде приспосабливаются к структурной семантике синтаксического целого в качестве акта художественности, после преобразовательной экономии приобретают особую динамику и свежее очарование.
В художественной среде мастер слова обладает непосредственной властью для изменения структур пословиц и поговорок, адаптирования их к закону экономии, и в этом случае “он/она придает им новые стилистичекие оттенки значений, сокращая части устоявшихся выражений, другими словами, присваивая, подгоняя их под себя” (9, 405). Например: –Səfehləmə, Nəcəf, sən də eşşəyə gücün çatmır... Hünərin varsa, andraniklərə, onun yolunu tutan əclaf erməni daşnaklarına özünü göstər (Не глупи, Наджаф, у сильного всегда бессильный виноват (Дословно: Не можешь справиться с ослом)... Если такой храбрый, иди сразись с андраниками и следующими за ними подлыми армянскими дашнаками) [10, c. 91].
Хоть во втором компоненте и опущена синтаксическая конструкция “ palanını toqqaşlamaq ” (бить вьючное седло), это не оказало влияния на художественную семантику пословицы. В таком случае пословицы обнаруживают стилистические отношения в контексте и в художественной средепредстают в качестве завершенных выражений, завершенного значения.
В народе для сравнения хорошего с хорошим, а плохого с плохим, в момент учитывания как хорошего, так и плохого обращаются к выражению типа Qoyunu qoyun ayağından, keçini keçi (Богово Богу, кесарево кесарю. Дословно: овцу за овечью ногу, козу за козью), и в выражении, выглядящем на первый взгляд обычным, прослеживается глубокое общественное значение, подразумеваются отношения людей, относящихся к разным слоям общества, с одинаковыми или разными мировоззрениями. Например, по структуре точно можно сказать, что при создании поговорки наши предки в обоих ее компонентах следовали принципу экономии, в первом компоненте они опустили глагол “asarlar” (вешают), а во втором – “ ayağından asmaq ” ( вешать за ногу ). Эту форму данной поговорки можно встретить и в прозаических текстах. Например: Köhnə Həsənlinin başına gələnlərdən söhbət düşəndə kəndimizin bəzi ağsaqqalları ayrı cür hava çalırdılar. Deyirdilər, qoyunu qoyun ayağından asarlar, Keçini keçi (Когда речь заходила о событиях, приключившихся с Кохне Гасанлы, некоторые аксакалы нашей деревни начинали петь по другому. Говорили, Богово богу, кесарево кесарю) [10, c. 25].
Пословица Uşağı bələkdə, küçüyü dəməkdə [Дословно: Нужно учить ребенка с колыбели, а щенка с норы] , используемая для прививания хорошего воспитания детям, охватывает один дидактический сюжет. Обе стороны этой пословицы, употребляемой в форме общего приказа – предостережения, подверглись экономии. Так, в первой части изречения опущена частица “ gərək ” ( нужно ), а во второй глагол “ öyrədəsən ” ( учить ). На уровне подсознания или в результате умственной деятельности в этом изречении механически убирается экономия и опущенные элементы занимают свои места. Например: – Yox, İsfəndiyar, səhvin var, – dedi. – Ağacın əyrisini siv vaxtı düzəltmədin, yoğunlayandan sonra ha çalışsan xeyri yoxdur. Gərək uşağı bələkdə, küçüyü dəməkdə öyrədəsən... ( – Нет, Исфендияр, ты ошибаешься, – сказал. – Если ты не выпрямил дерево, пока оно было маленькое, то после того, как оно вырастет, сколько ни трудись, никакой разницы. И к худу, и к добру приучаются смолоду) [10, c. 33-34].
Заражение пословицами и поговорками языка прозы и обогащение его эстетическими достоинствами представляет собой интересный процесс, а разъяснение свойствцеленаправленногоизменения этого процесса мастером слова и адаптирование к принципу экономии является очень важным для привнесения ясности существенным закономерностям процесса. Так как принцип экономии имеет индивидуальный характер, он в творческом стиле каждого писателя проявляет себя с помощью специфических черт. Например, имеющая в фольклорных книгах дидактический характер изречение Yetimə cancan deyən çox olar, çörək verən az (Маленьких сирот кормить не хочется, не отработают. Дословно: Сироту многие приголубят, но мало, кто накормит). В некоторых прозаических текстах второй компонент этого изречения в целях экономии полностью опускается:
– Eh mənim balaca dostum, eşit, agah ol ki, yetimə can-can deyən çox olar... ( Ах, мой маленький друг, слушай и знай, что маленьких сирот кормить...) [10, c. 55]. В следующем так называемом афоризме как глагол, так и личное местоимение ( mənim/ мой ) опущены: Əkinçilər həmişə deyir ki, qarlı qışın ola, dumanlı yazın ( Пахари всегда говорят: Снежной зимы, туманной весны ) [10, c. 67].
Большинство пословиц и поговорок достаточно приемлемы для обобщенно-личных предложений со сказуемым в III лице, множественном числе. В изречениях, выраженных в этой форме, широко наблюдаются случаи проявления принципа экономии. Например: Hamısı tənbəl-tənbəl şeydir . Nə ölüyə hay verəndilər, nə diriyə pay (Все они лентяи. От них, как от козла молока. Дословно: не подадут голос мертвому, ни подарок – живому) [10, c. 81].
В начало пословицы, использованной здесь, можно добавить местоимение III лица множественного числа “ onlar ” (“ они ”), а в конец второго компонента пословицы сказуемое “ verəndilər ” ( подадут ). Если исключить из предложения принцип экономии, то изречение также будеть употребляться в форме обобщенно-личного предложения, а определенные изменения в его структуре не окажут никакого влияния на семантику. Г. Казымов, отличающий обобщенно-личные предложения от неопределенно-личных на основе точных критериев, показывает, что “Хотя обобщенно-личные предложения со сказуемым в III лице, множественном числе по строению и семантическим особенностям близки к неопределенноличным предложениям, но по смысловому объему отличаются от них. Для того, чтобы отличить этот вид обобщенно-личных предложений (со сказуемым в III лице, множественном числе) от неопределенно-личных предложений, надо обратить внимание на их смысловой объем: относится ли деятельность, действие ко всем или охватывает одного человека или одну группу людей. Например, предложение Qoy sizi irəli çəkib direktor qoysunlar (B. Bayramov) ( Пусть вас повысят и назначат на должность директора ) является неопределенно-личным: здесь действие (назначат на должность директора) может относиться к одному лицу или к группе лиц. Предложение Ürək ağrısını ovmazlar ( Не береди рану ) выражает действие, относящее ко всем, поэтому оно – обобщенно-личное. Также, Sən boyda məsul işçini heç zaddan vəzifədən götürməzlər. Qaranlıq yerə daş atmazlar (Они не освободят от должности такого ответственного сотрудника, как ты. Не полезут на рожон) – первое из данных предложений неопределенно-личное, а второе обобщенно-личное. Увольнением с работы сотрудника может заниматься один человек или группа людей, действие относится к одному лицу или к группе неопределенных лиц. Дело, выраженное предложением Qaranlıq yerə daş atmazlar ( Не лезть на рожон) является действием, получившим форму правила и относящимся ко всем, везде” [11, c. 184].
Сказуемое некоторых пословиц и поговорок, употребляемых в прозаических текстах с определенными стилистическими целями, бывает во II лице, единственном числе. По общей структуре предложений со сказуемым, выраженным глаголом во II лице, единственном числе, создается впечатление, словно здесь пропущено местоимение “ты”. Например:– İndi, qardaşoğlu, o Cümşüd məsələsindən addayıb. Atalar demişkən, yalvarana yalvar (Теперь, племянник, она забыла о Джумшуде. Как говорится, люби того, кто любит тебя) [10, c. 80]. Если мы добавим местоимение “ты”, представляемое нами подсознательно, в изречение, то предложение станет двусоставным, определится исполнитель дела, ипредложение потеряет функцию обобщенно-личного предложения. Так как в изречении Yalvarana yalvar местоимение “ты” охватывает всех с семантической точки зрения, то оно является обобщенно-личным, следовательно, принцип экономии служит формированию ряда видов предложений.
В некоторых пословицах и поговорках принцип экономии наблюдается и на морфологическом уровне в качестве закономерного лингвистического явления. Например: во втором компоненте изречения El ağzı, sel ağzı ( çuval ağzı ) ( Скажешь с уха на ухо – узнают с угла на угол . Дословно : Рты у народа словно поток) для придания приказной формы должно было употребляться окончание “ dır ”. Но автор опустил этот морфологический показатель, сообщил мысль, выражающую общность с семантической точки зрения. Например: Niyəsini də açıb-ağartmıyıb, El ağzı, sel ağzı (Причину тоже не раскрыл, Скажешь с уха на ухо – узнают с угла на угол) [10, c. 83].
Таким образом, в прозаических текстах активно проявляют себя сильное влияние и связь народного языка, в передаче народного духа, национального колорита в простой и естественной форме наряду с другими синтаксическими конструкциями играют важную роль и сокращенные обобщенно-личные предложения.
Список литературы Проявление экономии в обобщенно-личных предложениях прозаических текстов
- Джавадов А. М., Юсифли Ш. В., Адилов Р. А. Стилистика азербайджанского языка. Баку: Элм, 1990. 145 с.
- Валиев А. Звезды времени. Баку: Писатель, 1976.
- Kazımov T. Taleyin qisməti beləymiş yəqin dördüncü kitab. Baku: Nurlan, 2010. 592 с.
- Rzasoy S. "Kitabi- Dədə Qorqud" eposu paramioloji vahidlərinin (atalar sözləri) funksional semantikasında mifoloji invariant strukturunun roluna dair" // Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası. Baku: Elm, 2006. С. 167-200.
- Байрамов Г. А. Основы фразеологии азербайджанского языка: автореф. дисс. … д-ра филол. наук. Баку, 1970. 161 с.
- Гусейнзаде Г. Азербайджанские пословицы и поговорки. Баку: Азернешр, 1959. 124 с.
- Hacıyev T. Sabir qaynaqlar və sələflər. Baku: Yazıchy, 1980. 175 с.
- Керимзаде Ф. И. Мост Худаферин. Баку: Язычы, 1982. 382 с.
- Гусейнов М. Язык и поэзия. Баку: Наука, 2008. 434 с.
- İldırımoğlu Ə. Daş yağan gün. Baku: Nurlan, 2011. 240 с.