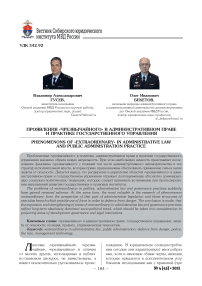Проявления "чрезвычайного" в административном праве и практике государственного управления
Автор: Гусев В.А., Бекетов О.И.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 4 (45), 2021 года.
Бесплатный доступ
Проблематика «чрезвычайного» в политике, административном праве и практике государственного управления внезапно обрела новую актуальность. При этом наибольшую ценность представляет исследование феномена «чрезвычайного» с позиций той части административного законодательства и тех структур исполнительной власти, которые прямо предназначены обеспечивать применение силы в целях защиты от опасности. Делается вывод, что расширение и укрепление областей «чрезвычайного» в административном праве и государственном управлении отражает долговременную абсолютно доминирующую социально-политическую тенденцию, которую следует принимать во внимание при прогнозировании направлений развития государственных и правовых институтов.
"чрезвычайное" в административном праве, государственное управление, защита от опасности, полиция, правило, управленческая технология
Короткий адрес: https://sciup.org/140261783
IDR: 140261783 | УДК: 342.92
Текст научной статьи Проявления "чрезвычайного" в административном праве и практике государственного управления
Лексемы «чрезвычайный», «чрезвычайная», «чрезвычайное» в отличие от многих других, используемых в публично-правовом дискурсе, не заимствованы, а имеют исключительно русскоязычное проис- хождение. В юридическом словоупотребле нии сегодня они характеризуют многообраз ные, хотя и имеющие общие черты, явления которые нуждаются в дополнительном углу бленном исследовании как с правовой (пре
184 ~ № 4 (45) • 2021

Взгляд. Размышления.Точка зрения ^^^
жде всего административно-правовой), так и с политической точек зрения. Проблематика «чрезвычайного» в праве, «чрезвычайной ситуации», «чрезвычайного положения», «режима повышенной готовности», других экстраординарных правовых институтов, их места в управленческой парадигме современных государств внезапно обрела новую значимость, хотя, как выяснилось, предварительно получила фундаментальное обоснование в философских источниках [1; 2; 6].
До учреждения и повсеместного введения в нашей стране режима повышенной готовности наиболее распространенным являлся режим чрезвычайной ситуации, устанавливаемый на определенной территории, на которой происходит какое-либо угрожающее событие – авария, опасное природное явление, техногенная катастрофа, распространение заболевания, представляющего высокую опасность для окружающих, стихийное или иное бедствие, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. При всех особенностях в целом его можно охарактеризовать как «усиленный» режим повседневной деятельности, имеющий целью нормализацию обстановки путем введения совокупности административных ограничений и мобилизации ресурсов. Режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по российскому законодательству может вводиться органами власти субъекта Российской Федерации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а Правительством Российской Федерации – на всей территории Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера1.
В отличие от чрезвычайной ситуации чрезвычайное положение представляет собой особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм, допускающий установление законом отдельных весьма чувствительных ограничений прав и свобод граждан, организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.
Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях вводится исключительно Указом Президента Российской Федерации лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер2. В сравнении с чрезвычайной ситуацией чрезвычайное положение – это значительно более суровый, можно сказать, исключительный режим, который после «августовского путча» 1991 г. в нашей стране ни разу не вводился.
При всей «чрезвычайности» режима, в котором население России провело уже два года и в условиях которого продолжает пребывать до сих пор, это все же региональный режим даже не чрезвычайной ситуации, а ему предшествующий, более мягкий режим повышенной готовности, который регионы вводили прежде всего как режим функционирования соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перманентно корректировали его, так сказать, по месту жительства, работы и учебы граждан. И сейчас этот режим в основных чертах соответствует указам глав субъектов Российской Федерации, принятым в марте 2020 г. То, что хотя к прежней обыденной жизни мы не вернулись, но стали более буд- нично воспринимать новую реальность, чуть больше года назад вполне осознаваемую в качестве «чрезвычайной», подводит нас к вопросу о том, что означает «чрезвычайное» с политической точки зрения3.
Не секрет, что сама легитимация государственной власти, права на применение силы, которое государство монополизирует, всегда основана на том, что указанная государственная сила защищает нас (соответственно, и самое себя) от какой-либо опасности. Одна из теорий происхождения государства основывает его на том, что оно возникло, когда надо было с кем-то воевать, обеспечивать господство определенной группы людей, завоевывать новые территории и имущество либо защищать свои, и для этого нужно было объединяться, мобилизовывать ресурсы, руководить, дисциплинировать; именно таким образом из разрозненного родоплеменного порядка возник «вождистский» тип власти, который потом эволюционировал в более сложные формы государственности. Таким образом, можно утверждать, что любая государственность из «чрезвычайного» происходит и заинтересована в его сохранении. К тому же общая «чрезвычайщина» и необходимость отражения внутренних и внешних угроз могут служить убедительным обоснованием пассивного отношения к любым модернизациям и реформам, нарушающим привычное существование [7, с. 43].
Обозначение какого-либо административно-правового режима или института как чрезвычайного предполагает, что есть и рутинный; если есть исключение, то есть и правило, норма, от которых указанное исключение отталкивается. Казалось бы, «чрезвычайное» в праве не может быть установлено надолго, на десятилетия, тем более навсегда, но многие институты административного и дореволюционного полицейского права говорят об обратном. Приведем некоторые достаточно яркие, с нашей точки зрения, примеры «рути-низированной чрезвычайности», постепенно ставшей правовой обыденностью.
-
1. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Его прототипом явился гласный полицейский надзор в Российской Империи4, который был учрежден в качестве одной из чрезвычайных мер, направленных на противодействие усиливающемуся революционному движению, используемым методам террора. Толчком к его установлению явилось убийство 1 марта 1881 г. народовольцами императора Александра II. За почти сто пятьдесят лет существования постепенно превратился в современный правовой институт, обеспечивающий эффективное предупреждение рецидивной преступности.
-
2. Специальный контроль в аэропортах, введенный в 1970-х гг. с целью предупреждения и пресечения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, ставший более чем привычным атрибутом пассажирских авиаперевозок.
-
3. Режим повышенной готовности. Вполне мог быть отнесен к разделу чрезвычайного законодательства в дореволюционном полицейском праве. Находится в процессе рути-низации, мы постепенно привыкаем к нему и практически перестаем замечать его изначально «чрезвычайный» характер.
-
4. Высокая строгость административной ответственности за участие в несогласованных публичных мероприятиях, установление уголовной ответственности за повторность такого участия.
-
5. Установление и применение административной и уголовной ответственности за экстремизм.
-
6. Быстрое развитие антитеррористиче-ского законодательства, предусматривающего в том числе право применения вооруженными силами оружия и боевой техники для пресечения полета воздушного судна (движения плавательного средства) путем его уничтожения, установленное большинством современных цивилизованных государств.
-
7. Учреждение и параллельное функционирование трех полицейских структур (об-
щей полиции, военной полиции и войск национальной гвардии), сопровождающееся, с одной стороны, непрерывным расширением их полномочий, с другой – определенным выходом полиции за рамки правовой основы своей деятельности. Так, согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» полиция в своей деятельности руководствуется законами субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции. Авторы Комментария к Федеральному закону «О полиции» справедливо указывают, что «круг нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, которыми должна руководствоваться полиция, ограничен только законами. Это означает, что в качестве правовой основы деятельности полиции не могут выступать подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации» [5, с. 32]. Между тем сегодня полиция, безусловно, участвует в реализации решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, определяющих мероприятия по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующих территориях, и остается при этом в поле законности. «Полиция постоянно действует в состоянии, подобном «чрезвычайному положению». Вопросы «общественного порядка» и «безопасности», решения о которых она должна выносить в каждом отдельном случае, конфигурируют зону неразличимости между насилием и правом» [1, с. 106].
-
8. Тотальная фиксация административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, дающая свыше ста миллионов привлечений к административной ответственности в год, а субъектом административного правонарушения выступает собственник транспортного средства.
Можно наблюдать существенное возрастание роли полиции как одного из базовых государственных институтов социального дисциплинирования населения [4, с. 12]. «Она раскидывает между многочисленными дисциплинарными институтами (фабриками, армиями, школами) промежуточную сеть, действующую там, где они не могут действовать, и дисциплинирующую недисциплинарные пространства» [3, с. 23].
Очевидно, что приведенный список примеров может быть намного расширен.
Можно выделить два вида чрезвычайности. Первый – это та ситуация, при которой существует определенный обыденный порядок, но вдруг в текущее течение жизни вторглись какие-либо факторы, несущие серьезную угрозу. В этом случае публичная власть в установленном порядке вводит один из заранее предусмотренных чрезвычайных административно-правовых режимов, который будет длиться до нормализации обстановки. Это так называемая рутинизируемая чрезвычайность. Данный вид чрезвычайности предполагает память о норме и стремление (даже не всегда сформулированное) в конечном итоге к ней вернуться. Второй вид чрезвычайности – это революционная чрезвычайность. Ее могут вызвать существенные изменения, произошедшие в политической жизни государства, повлекшие смену публичных властных структур. Революционно пришедшая новая власть добивается максимально возможной легитимизации и наиболее полной институционализации, признания правильности форм и методов своей деятельности. Именно таким чрезвычайным способом родилась Советская власть, при которой широко использовалась основанная на чрезвычайности терминология, а ее сердцевиной на этапе становления выступала система чрезвычайных комиссий. Использовавшиеся практики чрезвычайности всегда были направлены в две стороны: во внешнюю сферу и во внутрь государства. С внешней стороны предполагалось, что страна окружена врагами, и мы либо воюем, либо скоро начнем воевать, мобилизуемся, готовимся к войне. Достаточно логично это объяснялось тем, что наш общественный строй не похож ни на какой другой, мы первое в мире, вначале единственное социалистиче- ское государство. Все остальные государства капиталистические, поэтому они наши враги. Сейчас это объяснить сложнее, но потребность в этом остается. Сказанное охватывается внешним вектором чрезвычайности. Ее внутренний вектор состоит в том, что, во-первых, необходима мобилизация ресурсов для того, чтобы внешним врагам противостоять, во-вторых, внутри тоже есть враги, прежде всего агенты иностранных государств.
По степени чрезвычайности и естественности, с которой этот мобилизиционный модус ложился на базисную фундаментальную советскую идеологию, никакое другое государство не может сравниться с советским. В то же время заметим, что сама по себе «чрезвычайность» выгодна для любого государства. Субъект, вводящий какой-либо чрезвычайный режим или институт и заявляющий об отмене прежних правил, – он и есть власть. Одновременно он может рассчитывать на большое общественное сочувствие, потому что есть угроза и страх, и есть тот, кто спасает от беды. Последний сразу оказывается в фокусе общественного уважения. Соответственно, учреждаемые и широко применяемые меры административного принуждения и административного ограничения трансформируются, принимая вид заботы о принуждаемых.
Джорджо Агамбен в своих исследованиях глубоко анализирует эволюцию чрезвычайного положения (оно же – чрезвычайное правление, реализуемое всеми ветвями власти), применение которого постепенно распространялось, в том числе и как ответ на терроризм, и превращало исключение в правило. «Осознанное использование вечного чрезвычайного положения (даже если оно и не было объявлено формально) стало одной из главных практик современных государств» [2, с. 9]. «На фоне неудержимого развития явления, названного «гражданской войной в мировом масштабе», чрезвычайное положение все более и более стремится стать доминирующей управленческой парадигмой современной политики. Превращение временной и исключительной меры в управленческую технологию угрожает радикально преобразовать – и фактически уже ощутимо преобразовало – структуру и смысл различных традиционных конституционных форм» [2, с. 9]. «Сегодня мы наблюдаем со всей очевидностью: с того момента как «чрезвычайное положение… стало правилом», оно все чаще и чаще оказывается управленческой технологией, а не вынужденной чрезвычайной мерой, и обнаруживает свою природу основополагающей парадигмы правового порядка» [2, с. 16].
Таким образом, наблюдаемое расширение и укрепление областей «чрезвычайного» в практике государственного управления и, соответственно, в административном, полицейском и в других, тесно с ними взаимосвязанных отраслях законодательства, выступает долговременной абсолютно доминирующей тенденцией и, одновременно, наиболее выраженной характерной чертой государственного и правового развития нашего времени, что целесообразно принимать во внимание различным категориям исследователей при прогнозировании направлений развития государственных и правовых институтов.
Список литературы Проявления "чрезвычайного" в административном праве и практике государственного управления
- Агамбен, Д. HOMO SACER. Чрезвычайное положение / Джорджо Агамбен. - М., 2011.
- Агамбен, Д. Средства без цели. Заметки о политике / Джорджо Агамбен. - М., 2015.
- Кильдюшов, О.В. Мишель Фуко как исследователь "полицейского государства": программа, эвристические проблемы, перспективы изучения / О.В. Кильдюшов // Социологическое обозрение. - 2014. - Т. 13. - N 3. - С. 9-32.
- Кильдюшов, О.В. Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка из философии и полицейской практики / О.В. Кильдюшов // Социологическое обозрение. - 2013. - Т. 12. - N 3. - С. 9-40.
- Комментарий к Федеральному закону "О полиции" (постатейный) / Ю.Е. Аврутин, С.П. Булавин, Ю.П. Соловей [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2018.
- Шмитт, К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы / Карл Шмитт. - М., 2020.
- Шульман, Е. Практическая политология. Пособие по контакту с реальностью / Екатерина Шульман. - М., 2021.