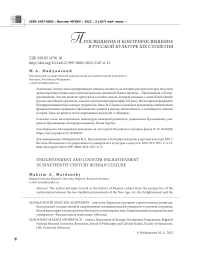Просвещение и контрпросвещение в русской культуре XIX столетия
Автор: Майданский Максим Андреевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (107), 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи предпринимает попытку взглянуть на историю русской культуры под углом зрения противостояния двух интеллектуальных движений Нового времени-Просвещения и Контр-просвещения. Эти два понятия трактуются в особом смысле, который связывал с ними Исайя Берлин (русско-английский мыслитель, классик политической философии XX века). Философский фундамент Контрпросвещения был заложен трудами Дж. Вико, И.Г. Гамана и немецких романтиков, пошатнувших фундаментальные принципы Просвещения: доверие к разуму, объективность и всеобщность законов истории. Здесь же кроется исток современных дискуссий о «Модерне».
Интеллигенция, любомудры, немецкий романтизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144162577
IDR: 144162577 | УДК: 930.85 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-3107-6-15
Текст научной статьи Просвещение и контрпросвещение в русской культуре XIX столетия
Первые ростки Просвещения в XVIII веке с трудом приживались на русской почве, даже у приоткрытого «окна в Европу». Ситуация начала меняться лишь после Отечественной войны 1812 года. Вступление русской армии в Париж Исайя Берлин считал не менее значимым для русской культуры событием, чем реформы Петра. Из европейских походов русские дворяне вынесли сильные, но с трудом уживавшиеся вместе чувства: гордость, патриотическое воодушевление победителей и «моральную уязвленность варварством русской жизни». В драматическом столкновении двух этих чувств рождалась русская интеллигенция.
«Интеллигенты» XIX столетия – дальняя родня французских просветителей. Те и другие были не просто интеллектуалами, но еще и миссионерами разума и свободы. «Мы – светские миссионеры, … и можем похвастаться тем, что наша церковь универсальна»,– писал Вольтер Екатерине II (цит.: [19, p. 612]). Со своей стороны, русские интеллигенты «видят себя посвященными в некий орден, как бы пастырями в миру, назначенными нести особое понимание жизни, своего рода новое евангелие» [3, с. 9]1. Семена интеллигент- ности были занесены с Запада и прорастали на пустоши между непросвещенным народом и не заинтересованными в его просвещении элитами. В течение долгого времени практически все идеи, которыми жила русская мысль, прибывали из-за границы, в основном, из Германии и Франции, значительно реже – из Англии и других стран.
Первые, по-настоящему оригинальные, философские концепции появляются ближе к концу XIX века. И. Берлин, правда, выделяет только одну – толстовское «непротивление злу», прибавляя: «В целом же, насколько могу судить, Россия не внесла в сокровищницу человечества ни одной новой социальной или политической мысли: любую из них легко возвести не просто к западным корням, но к той или иной конкретной доктрине, исповедовавшейся на Западе восемью, десятью, а то и двадцатью годами раньше» [3, с. 19].
Вместе с тем он отмечает, как в высшей степени отличительную черту русских интеллигентов, их необычайную «страсть к идеям» и готовность претворять свои замыслы в жизнь немедленно, сегодня же, притом – в самых крайних формах. Масла в огонь идейных страстей подливал немецкий романтизм, философски осмысленный и представленный в системах Фихте и Шеллинга. Для интеллигенции немецкая метафизика стала, по словам И. Берлина, «конспектом новой религии».
После разгрома декабристов русские либералы и радикалы повели партизанскую войну с самодержавием, подобную той, что в XVIII веке вели французские просветители. Но если те изобретали новую философию, то у нас безоговорочно господствовала философия немецкая, поначалу Шеллинг и романтики, позднее – политически радикализованная диалектика Гегеля.
«Немецкая философия и в особенности творения Шеллинга нас всех так к себе приковывали, что изучение всего остального шло у нас довольно небрежно,– вспоминал А. И. Ко-шелев.– Мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров». Участников тайного философского кружка, как и немецких классиков, занимала прежде всего теория познания: «Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед» [12, с. 13, 15].
Период чисто философских увлечений длился недолго, их вытеснили тайные же политические дебаты. Сожжение бумаг «Общества любомудров» в этом смысле оказалось весьма символичным актом.
Тем временем в Европе уже несколько десятилетий набирал силы процесс, который И. Берлин назвал «Контрпросвещением»2. В этом идейном течении участвовали, безусловно, и реакционеры, религиозные консерваторы и церкви разных конфессий, однако тут не было ничего нового: все они, вместе взятые, были не в состоянии успешно противодействовать движению Просвещения. Единственным достойным противником оказался романтизм, объединивший усилия со старой, уходящей своими истоками еще во времена греческих софистов, традицией релятивизма и скептицизма.
«Контрпросветители» атаковали понятие объективных законов истории. Берлин назы- вает эти законы «естественными», усматривая в них «сердцевину веры» и «главную догму для всего Просвещения». На самом деле это – сердцевина научного мышления со времен Фалеса, «главная догма» для всей науки вообще. Наука так устроена, что она во всем – включая и человеческую историю – ищет «естественные» законы, не зависящие от воли и сознания человека. Нападение на эту «догму» равнозначно нападению на самое научное мышление, а не на одно только Просвещение.
Контрпросвещение противопоставило этому релятивистский «историцизм» с его положением о неповторимой уникальности всякой народной культуры и принципом плюрализма «рациональностей» взамен всеобщего, единого для всех мыслящих существ разума, «логоса».
Первым в этом направлении двинулся Дж. Вико, независимо от него приступил к делу гораздо более радикально настроенный И. Г. Гаман, современник и земляк Канта, «Северный волхв», о котором написал свою последнюю книгу И. Берлин.
У Вико зарождается тот, сделавшийся популярным в конце XIX столетия, взгляд, что природа и человеческая история развиваются по разным законам и изучаются двумя разными методами (В. Виндельбанд назовет их номоте-тическим и идиографическим). Вико отвергает универсальность прогресса: «поступательное движение гражданских вещей», учит он, неизбежно сменяется движением возвратным и «временами второго варварства».
Вместе с тем, при всей резкости отличий Вико от просветителей, его роднит с ними «глубокая уверенность в верховном праве народа, как главной движущей силы истории» [13, с. XIV], что делает его полноправным участником движения Просвещения. В калейдоскопе исторических событий Вико открывает разумный «Вечный Порядок», учрежденный Божественным Провидением, и «вечные Законы, соответственно которым движутся Деяния всех Наций». Наконец, он хвалится тем, что его Наука «рассуждает строгим геометрическим методом» и «продвигается совершенно так же, как Геометрия» [6, с. 36, 118]. Этот сугубо рационалистический идеал научности абсолютно чужд и противен Контрпросвещению.
Прочтение И. Берлина выглядит если не предвзятым, то, во всяком случае, слишком односторонним, не учитывающим мно-гослойность и глубинную противоречивость «Новой науки». Вико не до такой степени «плюралист», как это представляется И. Берлину (который и сам отстаивал «агональный» плюрализм ценностей3, «несоизмеримость свобод» и т. п.).
Вико был мало известен в Европе до 1835 года, когда французский историк Жюль Мишле издал перевод (местами напоминавший пересказ) его «Новой науки». Назвав Вико «исполинским гением», А. И. Герцен, однако, иронически охарактеризовал его теорию исторических циклов: «у него человечество вертится всю жизнь в беличьем колесе dei corsi e ricorsi ( итал. : подъема и упадка)» [8, с. 209]. Н. Я. Данилевский, глубоко родственный Вико мыслитель, создавший свою циклическую теорию истории, вообще ни разу не упомянул его имени. Гамана же у нас не знал практически никто.
Идеи Контрпросвещения попадали в Россию не только вместе с новинками философской литературы, но и прямиком со студенческой скамьи. Так, А. И. Кошелев прослушал курс лекций Фридриха Шлейермахера, создателя герменевтики и религиозного философа, близкого к романтикам; Ф. И. Тютчев, В. П. Титов, Н. М. Рожалин (член кружка любомудров) и братья Киреевские лично внимали Шеллингу и другим немецким знаменитостям. Легко просматривается влияние шеллинговских идей в поэтическом творчестве Ф. И. Тютчева и еще одного любомудра, В. Ф. Одоевского, который был председателем кружка и устраивал заседания в своем доме. Д. В. Веневити- нов претворил философские мысли Шеллинга в романтические стихи. По словам В. В. Зень-ковского, «в Обществе любомудров Д. В. Веневитинову принадлежало первое место; он, действительно, увлекался философией страстно и своим энтузиазмом заражал и других. По его собственному выражению, “философия есть истинная поэзия”. В этих словах хорошо выражено и преклонение перед философией, и то общее настроение, которое тогда царило среди университетской молодежи. Это было почти религиозное отношение к философии, которая и в самом деле для многих уже вполне замещала религию» [10, с. 139].
Таким образом, русскую философию с самого начала отличал «поэтический» (или, вернее сказать, романтический) характер и «почти религиозное» отношение к философским поискам, которое так настойчиво подчеркивается в известном труде В. В. Зеньковского. Эти отличительные признаки были в высшей степени характерны и для западного Контрпросвещения времен Великой французской революции, и остаются таковыми для сегодняшних критиков «проекта Модерна».
Безусловно, многие «контрпросветители» не были противниками народного просвещения, наоборот,– активно ему содействовали. Однако движущей силой истории они считали не «толпу», а элиты и гениев, поэтому скептически относились к надеждам просветителей на самодеятельность народных масс (подобного рода скепсис, к слову, испытывал еще Вольтер и некоторые другие пионеры Просвещения). Миром правит не разум, а творческое воображение, интуиция, инстинкт жизни, воля и тому подобные иррациональные силы. «Что такое этот хваленый разум с его универсальностью, непогрешимостью и самонадеянными заявлениями, как не ens rationis [ лат. мысленное сущее, т. е. абстракция], набитое чучело, наделяемое божественными атрибутами?»,– риторически вопрошал Гаман (цит.: [3, с. 271]).
Подобное высокомерно-презрительное отношение к силам разума спустя столетие станет господствующим и, стараниями Шопенгауэра и Ницше, надолго завладеет умами философов – вплоть до М. Фуко и постмодернистов. Все действительное неразумно, а неразумное действительно…
II
Идея множественности культур, у каждой из которых имеется свой уникальный «разум», естественным образом выливалась в проекты построения самобытной русской философии , отличной от философий прочих культурных наций. Такую задачу ставил перед собой и своими друзьями-любомудрами уже юный Веневитинов.
«Веневитинов настойчиво выдвигал мысль о необходимости построения самостоятельной русской философии. Отрицательно относясь к слепому подражанию Западу, он готов был идти на то, чтобы на время прервать связи с Западом и, “опираясь на твердые начала философии”, найти собственные пути русского творчества: “Россия найдет свое основание, свой залог самобытности и своей нравственной свободы в философии”» [10, с. 139].
Если взглянуть на уцелевшие сочинения Веневитинова сквозь берлиновскую поляризующую линзу, мы увидим, как принципы и идеи Просвещения растворяются в релятивистской кислоте Контрпросвещения, теряя всю свою твердость, объективность и общезначимость.
В качестве примера рассмотрим заметку Веневитинова «Несколько мыслей в план журнала». Она касалась журнала «Московский вестник», который, по замыслу любомудров, был призван стать головным мозгом нарождающейся русской философии.
Заметка начинается с формулировки понятия просвещения. У просветителей XVIII века понятие это основывается на идеях разума и свободы. В знаменитом кантовском эссе просвещение определяется как свободомыслие : «Для этого просвещения требуется только свобода , и притом самая безобидная, а именно свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом» [11, с. 29].
Веневитинов толкует просвещение как «самопознание народа», поясняя, что каждый народ есть «лицо отдельное» и должен просвещаться «из начала, так сказать, отечественного» [5, с. 128]. Ни Кант, ни Вольтер не могли бы сказать ничего подобного. Для них Просвещение есть дело не немца или француза, но – человечества. Вопрос лишь в том, достиг тот или иной народ «состояния совершеннолетия» или пока что нет; в какой стране стесняется или воспрещается публичное выражение своих мыслей, а в какой – дозволяется.
Русская философия начинает с озабоченности своей «самобытностью» и персональным местом в истории. Неявной предпосылкой всякого рода поисков особого «русского пути» в истории, вселенской миссии русского народа и т. п. является отказ от понятия человечества как реального субъекта всемирной истории.
«Человечество» – это рассудочная абстракция, ens rationis, типа платоновской «лошадности» или «треугольности»; реально существуют лишь личности и народы. У каждой культуры имеется самобытное «отечественное начало», из которого развивается национальная философия и искусство. «Для сей цели надлежало бы некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения других народов,– предлагает Веневитинов.– Таким образом, мы сами сделаемся преимущественным предметом наших разысканий» [5, с. 132–133].
Такого рода самопознание и есть искомая русская философия. О публичной свободе слова и «чистом разуме», общем для всех людей и народов, Веневитинов не вспоминает. Хочешь сделаться свободным? Познай самого себя. Этот древний рецепт, по плану Веневитинова, и призван стать «залогом самобытности и нравственной свободы в философии». Страницей выше Веневитинов горячо приветствовал «освобождение России от условных оков и от невежественной самоуверенности французов», читай: просветителей. Молодым русским любомудрам Вольтер и Руссо, Дидро и Гельвеций не пример и не указ. «Мы отбросили французские правила», но лучших пока что не предложили; «таким образом, правила неверные заменились у нас отсутствием всяких правил» [5, с. 130–131]. Новый журнал призван исправить это положение дел, разработав правила, «применимые к произведениям новейших писателей, которыми невольно наслаждаемся» (подразумеваются, конечно, Шеллинг и немецкие романтики).
Веневитинов, как видим, не отказывается от просвещения, он переосмысливает это понятие в релятивистском духе. Каждый народ есть «лицо отдельное» и просвещается по-своему: что французу «свет разума», то русскому – тьма невежества. «Всякому городу нрав и права, всяка имеет свой ум голова» [15, с. 25]. По той же релятивистской колее двигалось Контрпросвещение во всем мире – от Вико и Гамана до Шпенглера, Хайдеггера и Фуко.
Конечно, не Веневитинов изобрел этот философский велосипед, он лишь вторил (разве что с русским акцентом) немецким романтикам, руководствуясь тем самым «чувством подражательности», от которого призывал избавиться. Свой философский план Веневитинов изложил в 1926 году. Год спустя он умрет, но выпавшее из его рук знамя «этнической» философии подхватят славянофилы и почвенники, сдобрив ее толикой «святоотеческого Предания», т. е. православного бого-словия,– так вышло еще самобытнее.
На самом деле подобного рода национальная самобытность, включая и критику западной цивилизации, является вариацией и отголоском западной же интеллектуальной традиции Контрпросвещения. Как метко заметил С. С. Аверинцев, «славянофильская критика Запада – законный момент общеевропейской романтической мысли, связанной с Шеллингом, родственной “гейдельбергской” романтике, во многом предвосхищающей “культур-критику” XX века, вплоть до Хайдеггера и дальше» [1, с. 21–22].
Остальной мир наши самобытные философские опыты не оценил. Вопреки своему горячему стремлению к самобытности, русский философский романтизм не открыл миру ничего принципиально нового. Ближе к концу века самый видный из русских философов, Владимир Соловьев, подведет неутешительный итог: «За последние два десятилетия довольно появлялось в России более или менее серьезных и интересных сочинений по разным предметам философии. Но все философское в этих трудах вовсе не русское, а что в них есть русского, то ничуть не похоже на философию, а иногда и совсем ни на что не похоже. Никаких действительных задатков самобытной русской философии мы указать не можем: все, что выступало в этом качестве, ограничивалось одною пустой претензией» [16, с. 345].
III
Лобовая атака на Просвещение (с участием неординарных консервативных мыслителей, таких как Э. Берк и Ж. де Местр, в России – Н. М. Карамзин) оказалась куда менее эффективной, нежели «буря и натиск» романтиков, пошатнувших фундаментальные философские принципы Просвещения – доверие к разуму, объективность и всеобщность законов истории.
Среди русских философов наиболее мощным и влиятельным защитником этих принципов был Н. Г. Чернышевский. В отличие от всякого рода романтиков он меньше всего гнался за самобытностью своей философии. «Своеобразным мыслителем Николай Чернышевский не был»,– констатирует И. Берлин, и не считал «русский путь» уникально-неповторимым: «Историческое развитие России, в частности, сельского “мира”, ни в коем случае не самобытно, а течет в соответствии со всеми социальными и экономическими законами, свойственными любому обществу» [4, с. 369, 373]. Если «русский мір», в отличие от западных стран, и сумеет «перепрыгнуть» капиталистическую стадию развития, то лишь благодаря развитию капитализма на Западе, благодаря технике и технологиям, которые можно там позаимствовать и использовать для революционного прыжка в социализм.
Проект Чернышевского оказался утопическим, но в нем было и рациональное зерно:
умелое соединение общинных и частнокапиталистических начал обеспечивает взрывной рост общественного производства. Это продемонстрировала, уже при жизни Чернышевского, «революция Мэйдзи» в другой патриархально-общинной стране, Японии. В гармонических «синтезах» двух противоположных начал – индивидуального и коллективного – ряд востоковедов видят основную причину успехов «азиатских драконов» в XX веке4. Конечно, это совсем не тот человечный общественный строй, о котором мечтал Чернышевский, но, во всяком случае, наличие социальной структуры общинного типа позволяет в разы сократить человеческие «издержки» и сроки перехода к развитому капитализму.
Известный американский историк культуры Дж. Израэль выделяет в движении Просвещения две ветви – радикальную и умеренную (radical vs. moderate Enlightenment). В Российской империи первым радикальным просветителем стал А. Н. Радищев. Вершины же своего развития наше радикальное Просвещение достигает в творчестве Чернышевского.
Умеренное Просвещение было представлено, как некогда и во Франции, и в большинстве европейских стран, с одной стороны, либералами, с другой – социалистами, уповавшими на реформы сверху и стремившимися всеми доступными способами подтолкнуть к ним власть. К этому времени философия умеренных просветителей под давлением Контрпросвещения претерпела глубокие изменения.
Так, Герцен со временем перенимает волюнтаристски-романтический взгляд на историю, формулируя его с редкостной прямолинейностью: «В истории все – импровизация, все воля, все ex tempore [тотчас], вперед ни пределов, ни маршрутов нет; есть условия, святое беспокойство, огонь жизни и вечный вызов бойцам пробовать силу, идти вдаль, куда хотят, куда только есть дорога,– а гд е ее нет, там е е сперва проложит гений…
Гений – роскошь истории, ее поэзия, coup d’état [государственный переворот], ее скачок, торжество ее творчества» [7, с. 27–28]. Ниже, впрочем, он оговаривается, что явление гения народу не обязательно, массы могут и сами проделать ту же работу, пусть и затратив на нее больше времени и труда.
Такой же взгляд на «историю без либретто», т. е. без всеобщих и необходимых законов, ляжет в основу сочинений П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского, с его «субъективным методом» познания общественной жизни. Парадокс в том, что ровно так же понимали историю и противники либералов и народников, «такие реакционные националисты, как, например, Страхов, Достоевский, Майков – а прежде всего, Катков и Леонтьев» [4, с. 60]. В лагере Контрпросвещения собрались многие идейные враги, и это еще не раз повторится в будущем.
Аналогичные альянсы в европейский век Просвещения описывал Дж. Израэль. Он гораздо проще, нежели Берлин, трактует Контрпросвещение, причисляя к нему лишь консервативно-реакционные круги, но на огромном фактическом материале показывает, как по одну сторону баррикад с ними регулярно оказывались сторонники «умеренного» Просвещения.
Мало того, в ходе Великой Французской революции сами «радикальные» просветители массово заражались иррационалистическими и антилиберальными настроениями. Уже Бенжамен Констан, публицист и политический деятель тех времен, по мнению Дж. Израэля, «верно рассматривал попрание Робеспьером и Сен-Жюстом основополагающих ценностей [Просвещения] как крушение Революции и вирусную форму Контрпросвещения – антиинтеллектуализм, враждебный свободомыслию и свободе личности, образованности и праву на критику. Если вести речь о принципах, Робеспьер был противоположностью Революции (the Revolution’s contradiction), антитезисом самого Просвещения» [20, p. 697].
Показательно, что сам Констан, как и многие другие, со временем мигрировал в лагерь
«умеренных» просветителей, а на склоне лет поддержал Июльскую революцию, окончившуюся реставрацией Бурбонов. Описанный им в молодости «вирус» Контрпросвещения заразил его самого, равно как и А. И. Герцена, и других русских «революционных демократов». Немногие, как Н. Г. Чернышевский и Г. В. Плеханов, смогли противостоять этому вирусу до конца.
***
Попытка взглянуть на историю русской культуры XIX века под углом зрения противостояния интеллектуальных движений Просвещения и Контрпросвещения (в том смысле, который вкладывал в эти понятия Исайя Берлин), привела нас к следующим выводам.
Формирование отечественной философии, начиная уже с «любомудров», протекало под определяющим влиянием немецкого Контрпросвещения. Веневитинов встал в от- крытую оппозицию к идеям французских просветителей и Канта; он переосмыслил в романтическом ключе само понятие Просвещения, трактуя его как «самопознание народа». В дальнейшем эта установка вылилась в поиски особого «русского пути» в мировой истории и «самобытной» философии (православно-религиозного толка, по преимуществу).
Во второй половине XIX столетия в одном лагере российского Контрпросвещения оказались идейные враги: либералы, умеренные народники, «легальные марксисты» и реакционные националисты. Всех их объединяет отказ от понятия «разумных», всеобщих и необходимых законов развития общества; принцип исторического детерминизма вытесняется релятивистским и субъективистским пониманием истории, идея общечеловеческого прогресса – теориями «круговоротов» и «локальных культур».
Список литературы Просвещение и контрпросвещение в русской культуре XIX столетия
- Аверинцев С. С. Попытки объясниться. Беседы о культуре. Москва: Правда, 1988. 45 с.
- Анненков П. В. Литературные воспоминания. Москва: Художественная литература, 1983. 694 с.
- Берлин И. История свободы. Россия / [Предисл. А. Эткинда, с. 5-8]. Москва: Новое литературное обозрение, 2001. 544 с.
- Берлин И. Русские мыслители. Москва: Энциклопедия-ру, 2017. 496 с.
- Веневитинов Д. В. Несколько мыслей в план журнала // Стихотворения. Проза. Москва: Наука, 1980. С. 128-133.
- Вико Дж. Основания Новой Науки об общей природе наций / [Предисл. М.А. Лифшица, с. VII-XXVI]. Ленинград: Художественная литература, 1940. 619 с.
- Герцен А. И. С того берега // Сочинения: в 2 томах. Москва: Мысль, 1985-1986. Том 2 / сост. и авт. примеч. З. В. Смирнова. 1986. С. 3-117.
- Герцен А. И. Публичные чтения г. Грановского (Письмо второе) // Сочинения: в 2 томах / [сост. и авт. вступ. ст. А. И. Володин ; ред.: А. И. Володин, З. В. Смирнова] ; АН СССР. Институт философии. Москва: Мысль, 1985-1986. Том 1. 1985. С. 205-213.
- Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. Москва: Праксис, 2003. 368 с.
- Зеньковский В.В. История русской философии. Москва: Академический Проект, Раритет, 2001. -880 с.
- Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Сочинения: в 6 томах. Том 6. Москва: Наука, 1966. С. 26-35.
- Кошелев А. И. Записки. С семью приложениями. Москва: Наука, 2002.
- Лифшиц М. А. Джамбаттиста Вико (1668-1744) // Вико Дж. Основания Новой Науки об общей природе наций. Ленинград: Художественная литература, 1940. С. VII-XXVI.
- Паньковский А. Агональный либерализм Исайи Берлина // Логос. 2003. № 4-5 (39). С. 166-177.
- Сковорода Г. С. Сад божественных песен // Сковорода Г.С. Наставления бродячего философа. Полное собрание текстов. Москва: АСТ, 2018. С. 25-35.
- Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // Сочинения: в 2 томах. Том 1. Москва: Наука, 1989. С. 409-636.
- Цветов В. Я. Пятнадцатый камень сада Рёандзи. Москва: Политиздат, 1986. 301 с.
- Berlin, Isaiah. The Counter-Enlightenment // Dictionary of the history of ideas: Studies of selected pivotal ideas, in 4 vols. Ed. by Phillip G. Wiener. New York: Charles Scribner's Sons, 1973, vol. 2, pp. 100-112.
- Israel, Jonathan. Democratic Enlightenment: Philosophy, revolution, and human rights. 1750-1790. Oxford University Press Inc., New York, 2011.
- Israel, Jonathan. Revolutionary ideas: An intellectual history of the French Revolution from the Rights of Man to Robespierre. Revolutionary Ideas. Oxford & Princeton: Princeton University Press, 2014.