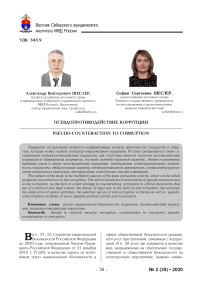Псевдопротиводействие коррупции
Автор: Шеслер Александр Викторович, Шеслер Софья Сергеевна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 2 (39), 2020 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования являются неэффективные аспекты деятельности государства и общества, которые можно назвать псевдопротиводействием коррупции. В статье раскрываются такие составляющие псевдопротиводействия коррупции, как отсутствие внятной стратегии противодействия коррупции в официальных документах, носящих политико-правовой характер, обилие нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, имитирующих антикоррупционную деятельность государства, избирательный характер антикоррупционной деятельности, псевдоантикоррупционная деятельность некоторых оппозиционных политических партий и движений.
Угрозы национальной безопасности, коррупция, противодействие коррупции, псевдопротиводействие коррупции
Короткий адрес: https://sciup.org/140247137
IDR: 140247137 | УДК: 343.9
Текст научной статьи Псевдопротиводействие коррупции
Вп.п. 37, 55 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683, в качестве одного из источников угроз национальной безопасности в сфере общественной безопасности указывается рост преступлений, связанных с коррупцией. В п. 38 этого же документа в качестве мер, направленных на обеспечение государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу, названо сниже- ние уровня коррупционности. Многочисленные научные исследования и журналистские расследования подтверждают данную оценку опасности коррупции и важности противодействия ей [2; 4; 6]. Отдельные факты о деятельности правоохранительных органов, прокуратуры, суда свидетельствуют о том, что государство активно борется с этим явлением, причем к уголовной ответственности привлекаются даже главы регионов и должностные лица федерального уровня. Однако в целом реальное состояние воздействия на коррупцию включает в себя не только борьбу с ней, но и псевдопротиводействие коррупции. Это проявляется в следующем.
-
1. Отсутствует внятная стратегия в официальных документах, создающих политикоправовые основы воздействия на коррупцию . Об этом свидетельствуют утверждаемые указами Президента РФ национальные планы противодействия коррупции в течение целого ряда лет. Эти планы, включающие перечень конкретных мероприятий, не содержат в себе четко расставленных акцентов, которые позволяют судить о том, в чем состоит суть противодействия коррупции в России, а именно: в борьбе с коррупцией, предполагающей активную деятельность органов уголовной юстиции, в установлении посильного для общества контроля над коррупцией, в компромиссе с коррупцией, предполагающей ее частичную декриминализацию и даже частичную легализацию, в усилении мер по ее социальной профилактике или в чем-то другом. Не случайно указанные политико-правовые документы названы именно планами, а не программами, концепциями, стратегиями, выражающими ясную позицию государства в отношении каких-либо опасных явлений для общества. Такая позиция, может быть, в какой-то мере ошибочная или несовершенная, была выражена в Федеральной программе Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 г. N 1016, Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р,
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. N Пр-2753, и других.
-
2. Обилие нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, представленных нормами международного права и российским нормативными правовыми актами, из которых уже выстроилась иерархия, получившая законодательное закрепление . Так, в ст. 2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» отмечается, что правовую основу противодействия коррупции в Российской Федерации составляют: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты. На первый взгляд кажется, что такие «прочные» правовые основы создают режим законности в деятельности государства по противодействию коррупции, обеспечивают права и законные интересы лиц, оказавшихся в сфере этой деятельности,
-
3. Избирательный характер антикоррупционной деятельности, которая в большей мере ориентирована на отдельные факты поборов со стороны рядовых служащих государственного и муниципального аппарата, занимающихся примитивными поборами с граждан за оказание им незначительных услуг . Безусловно, такие факты не должны оставаться без реакции со стороны государства. Однако такое бытовое мздоимство существенным образом не влияет на состояние социально-экономических процессов в обществе [6]. В меньшей степени деятельность органов уголовной юстиции ориентирована на преступную деятельность высокопоставленных чиновников, реально влияющих на распределение финансовых, природных и иных ресурсов, на назначение на важные должности в государственных и муниципальных органах, которая получила в литературе наименование элитно-властной преступности [3].
Особой неопределенностью в этом отношении характеризуется Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378. По своим задачам и содержанию этот план предусматривает совершенствование системы нормативно-правовых актов о противодействии коррупции и существующей системы мер. Из этого плана следует, что в России сложилась оптимальная система противодействия коррупции, которую нужно только совершенствовать. Однако оптимальная система может основываться только на внятно выраженной позиции государства в отношении коррупции, которая, как уже отмечалось, отсутствует.
создают гарантии, препятствующие незаконному привлечению их к уголовной ответственности. В реальности все наоборот.
Излишняя правовая регламентация антикоррупционной деятельности, во-первых, создает мнимые коррупционные правонарушения, которые не являются таковыми по сути, т.к. любое нарушение положения антикоррупционного законодательства относится к таким правонарушениям. Например, в качестве такого правонарушения оценивается неправильное заполнение справок о доходах сотрудников правоохранительных органов, которые могут в силу отсутствия необходимых разъяснений сотрудниками кадровых аппаратов внести данные о компенсации проезда к месту отдыха (по сути это тоже является доходом), невнесение сведений, о необходимости указания которых государство меняет свою позицию (в частности, сведений о доле в праве общей собственности собственников квартир в многоэтажном доме или на земельный участок), указание остатка денежных средств на зарплатной карте в конце года на основании выписки из банкомата, а не на основании удостоверенной справки из банка (разница в суммах может составлять всего несколько рублей) и т.д. Выявляя такие правонарушения, ведомственные антикоррупционные органы и прокуратура успешно выполняют показатели по противодействию коррупции.
Во-вторых, излишняя правовая регламентация антикоррупционной деятельности порождает коллизии между нормативноправовыми актами различной отраслевой принадлежности. В частности, очевидным является противоречие между положениями ст. 575 ГК РФ, допускающими дарение обычных подарков на сумму не свыше трех тысяч рублей в связи с официальными мероприятиями должностным лицам, и нормами административного и уголовного законодательства, запрещающими получение и дачу таких подарков в виде незаконного вознаграждения от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и взяточничества (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ) или коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Несмотря на то, что правовой механизм реализации ст. 575 ГК РФ определен в по- становлении Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», в нем нет критериев, при которых злоупотребление правом, содержащимся в ст. 575 ГК РФ, перерастает в административное коррупционное правонарушение или преступление.
В-третьих, излишняя правовая регламентация антикоррупционной деятельности порождает избыточную криминализацию коррупционных деяний, которые до их самостоятельной криминализации уже подпадали под признаки определенных составов преступлений. Для органов уголовной юстиции, применяющих уголовный закон, это создает излишнюю проблему конкуренции уголовноправовых норм. Например, появление в УК РФ ст. 291.1, предусматривающей отдельный состав преступления в виде посредничества во взяточничестве, и ст. 291.2 УК РФ, предусматривающей отдельный состав преступления в виде мелкого взяточничества, привело к необходимости разграничения посредничества во взяточничестве и соучастия в нем. Эта проблема возникает при квалификации посредничества в получении и даче взятки в незначительном размере, в размере, не превышающем 10 тыс. руб., заранее данного обещания скрыть лиц, участвовавших во взяточничестве, средства или орудия совершения взяточничества, следы взяточничества, предмет взятки, приобрести или сбыть такой предмет. Получается, что при наличии самостоятельного состава посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) эти действия образуют пособничество во взяточничестве и квалифицируются в зависимости от размера взятки (от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб., до 10 тыс. руб.) соответственно по ч. 5 ст. 33 УК РФ и ст. 290 или ст. 291 УК РФ либо по ст. 291.2 УК РФ. Возникает также проблема отграничения обещания или предложения посредничества во взяточничестве от подстрекательства, т.к. они пособничеством не охватываются (ч. 5 ст. 33 УК РФ) и могут быть способом склонения к получению или даче взятки, т.е. образовывать действия подстрекателя (ч. 4 ст. 33 УК РФ) [7].
Количество нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции соизмеримо с их количеством в сфере борьбы с терроризмом и наркопреступностью. В определенной степени такая ситуация является имитацией усиления активности со стороны государства в борьбе с этими явлениями. Сложным является путь широкомасштабного улучшения условий жизнедеятельности общества, его нравственного оздоровления. Достаточно сложной является задача оптимизации деятельности органов уголовной юстиции, связанная с повышением качества раскрытия и расследования соответствующих преступлений, а также осуществлением правосудия в отношении лиц, их совершивших. Гораздо проще государству отозваться на новые криминальные вызовы избыточной правотворческой деятельностью, в том числе криминализацией деяний, повышением их наказуемости.
Одним из свидетельств избирательного характера антикоррупционной деятельности является расширительное толкование субъектов коррупционных преступлений. Например, расширительное толкование функций должностных лиц дано в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», в результате которого к таковым отнесены учителя и врачи в случаях, когда они принимают решения, имеющие юридическое значение и влекущие определtнные юридические последствия (принимают экзамены, выдают листки временной нетрудоспособности и т.д.). Представляется, что такие действия персонала лечебных учреждений или школьных учителей, преподавателей учебных заведений не являются реализацией властных полномочий представителя власти, лица, выполняющего организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Такое толкование уголовного закона лишь позволяет органам уголовной юстиции отчитаться за выполнение установленных показателей противодействию коррупции.
И, наконец, свидетельством псевдопротиводействия коррупции является псевдо-антикоррупционная деятельность некоторых оппозиционных политических партий и движений. Под видом борьбы с коррупцией, спекулируя на ее достаточно высоком уровне и спросе населения на социальную справедливость, эти субъекты на самом деле осуществляют деструктивную политическую деятельность, направленную на изменение конституционной политической системы («прогнившего», «авторитарного», «коррумпированного» в их терминологии режима), изменение вектора развития страны с экономической и политической самостоятельности на «вхождение в цивилизованную семью европейских народов» в «в цивилизованный западный мир». 1990-е годы показали, что под этими лозунгами осуществлялись стремительная потеря Россией геополитической самостоятельности, превращение ее в сырьевой придаток и «помойную яму» глобальной системы мирового хозяйства, основанного на системе англо-саксонских ценностей [1]. Причем указанные субъекты отрицают реальные действия государства по противодействию коррупции, не проявляют особого интереса к проявлениям коррупции со стороны конкретных должностных лиц, манипулируют общественным сознанием, сознательно отождествляя коррупционные явления с сущностью сложившейся политической системы.
Вывод из вышеизложенного состоит в том, что противодействие коррупции должно быть освобождено от деятельности по псевдопротиводействию ей. Государство должно внятно выразить свою позицию в отношении коррупции в виде стратегии, отражающей сущностные моменты антикоррупционной деятельности. Национальные планы противодействия коррупции, содержащие второстепенные мероприятия, как уже отмечалось, такой стратегии не отражают. Акцент в этой стратегии должен быть сделан на деятельности органов уголовной юстиции в отношении тех государственных и муниципальных слу- жащих, управленческие решения которых в наибольшей степени влияют на социальноэкономические процессы страны, региона, отдельного территориального образования. Внятная стратегия противодействия коррупции потребует незначительной корректировки существующей правовой основы этой деятельности, прежде всего в аспекте устранения излишней криминализации коррупционных преступлений, устранения конкуренции уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за эти преступления, устранения коллизии между этими уголовно-правовыми нормами и нормами другой отраслевой принадлежности, исключения положений, содержащих псевдокоррупционные правонарушения
Список литературы Псевдопротиводействие коррупции
- Беляев, Д.С. Разруха в головах. Информационная война против России / Д.С. Беляев. - СПб., 2014.
- Голик, Ю.В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю.В. Голик, В.И. Карасев. - СПб., 2005.
- Кузнецова, Н.Ф. Об элитно-властной преступности / Н.Ф. Кузнецова // Преступность: стратегия борьбы. - М., 1997.
- Лихолетов, Г. Блеск и нищета ЮИ ТГУ / Г. Лихолетов // Томская неделя. - 2018. - 20 октября.
- Лунев, В.В. Политические и правовые проблемы коррупции / В.В. Лунеев // Коррупция в органах власти. Природа, меры противодействия, международное сотрудничество: сборник статей / под ред. П.Н. Панченко, А.Ю. Чупровой, А.И. Мизерия. - Н. Новгород, 2001.
- Противодействие коррупции на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 112-летию Юридического института Томского государственного университета и необходимости разработки программы противодействия коррупции на муниципальном уровне (Томск, 21-24 декабря 2010 г.). - Томск, 2010.
- Шеслер, А.В. Виды коррупционных правонарушений, совершаемых сотрудниками УИС / А.В. Шеслер, С.С. Шеслер // Вестник Кузбасского института. - 2015. - N 4.