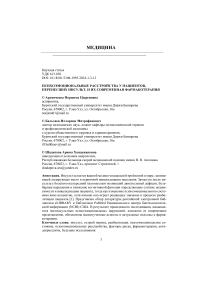Психоэмоциональные расстройства у пациентов, перенесших инсульт, и их современная фармакотерапия
Автор: Архинчеева Н.Ц., Бальхаев И.М., Шадапова А.Х.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Медицина и фармация @vestnik-bsu-medicine-pharmacy
Рубрика: Медицина
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
Инсульт остается важной медико-социальной проблемой в мире, занимающей лидирующее место в первичной инвалидизации населения. Зачастую после инсульта у больного на передний план выходят возникший двигательный дефицит, бульбарные нарушения и снижение когнитивной функции определяющие степень независимости и инвалидизации пациента, тогда как изменение психоэмоционального состояния явно незаметно, хотя именно оно играет решающее значение в процессе реабилитации пациента [1]. Представлен обзор литературы российской электронной библиотеки eLIBRARY и библиотеки PubMed Национального центра биотехнологической информации (NCBI) США. В результате проведенного исследования, касающегося постинсультных психоэмоциональных нарушений, изложено ее современное представление, обозначены малоизученные аспекты и актуальные подходы к фармакотерапии.
Инсульт, острый период, реабилитация, психоэмоциональное состояние, психоэмоциональные расстройства, факторы риска, фармакотерапия, антидепрессанты, будущие исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/148329396
IDR: 148329396 | УДК: 615.038 | DOI: 10.18101/2306-1995-2024-1-3-12
Текст научной статьи Психоэмоциональные расстройства у пациентов, перенесших инсульт, и их современная фармакотерапия
Психоэмоциональные нарушения часто возникают у пациентов, перенесших инсульт, и имеют разнообразное проявление в виде постинсультной депрессии, тревоги, эмоциональной лабильности, агрессии, астении. Лежащие в основе этих эмоциональных расстройств патофизиологические механизмы различны [2]. Расстройства настроения и эмоционального состояния оказывают негативное влияние на клинические исходы пациентов. Например, пациенты с постинсультной депрессией менее привержены к реабилитации, в итоге имеют худший функциональный исход, следовательно, более низкое качество жизни, повышенную смертность, чем те, у кого их нет [3].
Цель работы — описать современное представление о постинсультных психоэмоциональных расстройствах, обозначить малоизученные аспекты и современные подходы к фармакотерапии этих синдромов.
Проанализированы статьи, базирующиеся на данных литературы в российской научной электронной библиотеке eLIBRARY и библиотеке PubMed Национального центра биотехнологической информации (NCBI) США до октября 2023 г.
Постинсультная депрессия . Симптомы депрессивного расстройства включают подавленное настроение, ангедонию, потерю энергии, снижение концентрации внимания и психическую усталость. Для диагностики депрессии широко используется диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-5). Так, если имеется подавленное настроение или ангедония (потеря интереса или удовольствия) дольше 2 недель, диагностируется депрессия при наличии по крайней мере четырех из следующих симптомов: существенное изменение веса, нарушения сна, психомоторное возбуждение/заторможенность, усталость, чувство никчемности или вины, снижение концентрации и нерешительность. Для скрининга и мониторинга депрессивных симптомов используются опросники: госпитальная шкала депрессии и тревоги, шкала Гамильтона, шкала Бека, шкала Монтгомери — Асберга.
Однако остается спорным вопрос об использовании этих шкал у пациентов в остром периоде. Снижение аппетита, нарушения сна или снижение концентрации внимания могут отчасти обусловлены самим инсультом или сопутствующими заболеваниями. Существует проблема оценки депрессивных симптомов у пациентов с афазией или деменцией. Разработанная шкала депрессии при афазии и госпитальный вариант инсультной афатической шкалы депрессии-10 выполнимы, но их валидность изучена недостаточно [4]. Следовательно, интерпретировать эти опросники необходимо осторожно.
Распространенность постинсультной депрессии по объединенному метаанализу 61 исследования составила 31% всех выживших после инсульта [5]. Наиболее значимым фактором развития депрессии является тяжелый инсульт с выраженным двигательным дефицитом и улучшением неврологической функции тяжесть депрессивных симптомов снижается [6]. Хотя Робинсон подчеркивал возникновение постинсультной депрессии при повреждении левой лобной доли [7], недавний мета-анализ не подтвердил этот аргумент [8] и связь между локализацией поражения и постинсультной депрессией все еще остается неясной.
Сложный патогенез постинсультной депрессии обусловлен как и изменениями в нейротрансмиттерной системе (серотонинергической, адренергической, дофаминергической) за счет повреждения головного мозга, так и психологическим стрессом из-за внезапной функциональной потери, ведущей к семейным проблемам, потере трудоспособности [9]. Кроме того, тип личности пациента и генетический полиморфизм генотипа 5-HTTLPR SS предрасполагают к развитию депрессии.
Фармакотерапия постинсультной депрессии . Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) считаются препаратами для первоначального применения, поскольку они более переносимы пожилыми пациентами. Среди различных СИОЗС эсциталопрам, аллостерический и высокоселективный серотонинергический препарат лучше всего переносятся и наиболее широко используются, за ними следуют сертралин и пароксетин [10].
При неэффективности СИОЗС надлежит рассмотреть терапию антидепрессантами другой группы, такими как ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, модуляторы и агонисты серотонина, норадренергические и селективные серотонинергические антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата норадреналина и дофамина [11]. В клинической практике эти препараты часто используются, когда требуются дополнительные эффекты, например ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина при сопутствующей центральной боли, миртазапин при бессоннице. Медикаментозное лечение пациентов с постинсультной депрессией необходимо проводить как с мониторингом эффективности, так и с обязательным отслеживанием побочных эффектов. Продолжительность приема препаратов остается неясной, но рекомендуется продолжать лечение по крайней мере в течение 6 месяцев после первоначального выздоровления.
Постинсультная тревога в основном проявляется в виде генерализованного тревожного расстройства. Для установления диагноза критерии DSM-5 требуют наличия трех или более из следующих шести симптомов: беспокойство, переутомление, трудности с концентрацией внимания, раздражительность, мышечное напряжение и нарушения сна. Для диагностического скрининга используются шкала тревоги Бека, шкала Гамильтона для оценки тревожности, госпитальная шкала тревоги и депрессии [13].
Как и при постинсультной депрессии, эти диагностические инструменты включают симптомы, которые могут быть связаны с самим инсультом (например, усталость, бессонница, когнитивные нарушения и т. д.) или сопутствующими со- стояниями, такими как диабет, сердечная недостаточность, отказ от курения, побочное действие лекарств и т. д. Таким образом, интерпретацию этих тестов следует проводить осторожно, особенно у пациентов в остром периоде.
Постинсультная тревога встречается примерно у каждого четвертого пациента, и со времени дебюта инсульта выраженность и тяжесть тревоги уменьшается, хотя другие исследования показали, что до 30% пациентов все еще испытывают симптомы тревоги спустя годы [14]. Частота других специфических тревожных расстройств, таких как агорафобия, обсессивно-компульсивное расстройство и панические расстройства у пациентов, перенесших инсульт, остается до сих пор неясной.
Депрессия часто сочетается с тревогой в 25‒80% случаев. Когда тревога ассоциируется с депрессией, негативное влияние на исход лечения пациента становится еще сильнее.
Фармакотерапия постинсультной тревоги . Рандомизированные клинические исследования постинсультной тревоги проводятся редко, и доказательств пока недостаточно для клинических рекомендаций [15]. СИОЗС считаются препаратами первой линии. Эсциталопрам, сертралин и пароксетин рекомендуются из-за благоприятного профиля взаимодействия и редких побочных эффектов. Их успокаивающее действие происходит медленно, и ожидается, что реакция пациента наступит через 2‒6 недель. Риск желудочно-кишечных расстройств и кровотечений возрастает при одновременном применении антитромботических средств. Необходимо контролировать гипонатриемию, учитывать риск падения и переломов костей. Помимо СИОЗС применимы антидепрессанты нового поколения, например дулоксетин, венлафаксин и миртазапин.
В раннем восстановительном периоде при необходимости в быстром эффекте можно использовать бензодиазепины. Длительное применение бензодиазепинов не рекомендуется, поскольку это может вызвать седативный эффект, атаксию, невнятную речь, сонливость, привыкание, повышенный риск падения. Временное добавление бензодиазепинов способствует улучшению симптомов и снижению начальных доз СИОЗС. Когда другие препараты не действуют или у пациентов имеется сопутствующая центральная боль, допустимо применять прегабалин [16].
Эмоциональная лабильность возникает у 6‒34% пациентов после инсульта. Больные проявляют внезапный, неконтролируемый, чрезмерный, неуместный плач или смех без видимых причин или в ответ на стимулы, которые обычно не вызывают этого [17]. В основе патогенеза данного расстройства лежит нарушение нейронной связи между передней корой головного мозга, внутренней капсулой, базальными ганглиями, вентральным стволом головного мозга. Также повреждение таламуса или мозжечка способно привести к проявлению эмоциональной лабильности. В исследованиях показана важная роль серотонинергических волокон в возникновении этих симптомов и определенная роль дофамина и глютамина в регуляции центров смеха/плача в стволе мозга. Тяжелая неврологическая дисфункция и наличие депрессии способствуют развитию данного расстройства [18].
Фармакотерапия эмоциональной лабильности . Слабо выраженная эмоциональная лабильность самопроизвольно проходит в течение нескольких месяцев.
Но когда симптомы стойкие и причиняют беспокойство пациентам или лицам, осуществляющим уход, требуется лечение. В пяти рандомизированных клинических исследованиях применение СИОЗС было эффективным в облегчении симптомов психоэмоциональной лабильности [19]. Кокрановский обзор подтвердил, что эти препараты эффективны в снижении частоты и тяжести психоэмоциональной лабильности. Поэтому СИОЗС следует рассматривать как препарат первой линии. Остается неясным вопрос о подходящей продолжительности терапии.
Описанные серии случаев предполагают, что леводопа и амантадин были эффективны при лечении постинсультной эмоциональной лабильности. Амантадин ингибирует обратный захват дофамина постсинаптическими рецепторами, следовательно, повышает активность дофамина. Амантадин также является агонистом рецептора сигма-1, который модулирует серотонинергические нейроны дорсального шва [20]. Декстрометорфан/хинидин (Nuedexta) — еще один перспективный препарат для лечения данного расстройства. Декстрометорфан является антагонистом NMDA-рецептора, а также агонистом сигма-1-рецептора. Благоприятный эффект декстрометорфана, вероятно, опосредован активацией сигма-1-рецептора или усилением серотонинергической активности [21]. В 2010 г. декстрометор-фан/хинидин получил одобрение FDA США в качестве фармакотерапии эмоционального недержания мочи. Все же данные о долгосрочной безопасности и эффективности по-прежнему отсутствуют, и препарат не тестировался у пациентов, перенесших инсульт.
Постинсультная агрессия. Пациенты, перенесшие инсульт, могут проявлять агрессивное поведение: нанесение ударов другим, пинание, укусы, бросание предметов, ругательства и крики. При тщательном рассмотрении оказывается, что раздражительность или неспособность контролировать гнев встречаются гораздо чаще, чем откровенная агрессия. Пациенты становятся более нервными, импульсивными, враждебными, менее терпимыми по отношению к своим родным. Постинсультное агрессивное поведение тестируется с использованием опросника Спилберга для оценки агрессии, индекса эмоционального поведения. Установлено, что постинсультная агрессия присутствует у 15‒35% пациентов в остром периоде [22].
Неврологический дефицит, двигательные нарушения, дизартрия, ранее перенесенный инсульт, преморбидные черты личности, депрессия, враждебное окружение и низкая активность моноаминоксидазы А связаны с развитием агрессивного поведения [22]. Отмечалось, что повреждение лентикулокапсулярно-стволо-вой области основания моста приводит к проявлению агрессии, но до сих пор нет единого мнения относительно локализации повреждения головного мозга, которое может привести к состоянию гнева [23]. Как и в постинсультной эмоциональной лабильности, серотонинергическая дисфункция в равной мере играет важную роль в патогенезе агрессивного поведения [22].
Фармакотерапия постинсультной агрессии. Терапия необходима, когда постинсультная агрессия протекает тяжело, имеет рецидивирующее течение и когда лица, осуществляющие уход, испытывают значительные трудности. СИОЗС являются группой препаратов первой линии, хотя для рекомендации предпочтительного использования ранней схемы фармакотерапии проведено мало клинических исследований. Одно исследование показало, что прием флуоксетина в дозе 20 мг/сут в течение трех месяцев значительно уменьшал агрессию и эффект продолжался до трех месяцев после прекращения приема препарата [19]. Более недавнее исследование эсциталопрама в остром периоде инсульта показало, что уровень гнева через 3 месяца после лечения стал ниже, чем у пациентов, получавших плацебо [24].
При срочной необходимости из-за сильной гневливости, мешающей работе врача и сестринского ухода, уместно назначение атипичных нейролептиков. Наиболее широко используется кветиапин, но также можно использовать оланзапин или рисперидон. Дозировка определяется путем тщательного мониторинга эффективности и побочных эффектов, под контролем электрокардиограммы из-за риска удлинения интервала Q-T. Поскольку агрессивность угасает со временем, дозировку следует уменьшить и после прекратить прием препарата. Бета-адренергические антагонисты и литий снижают агрессивность у пациентов с черепно-мозговой травмой, но еще не изучались у пациентов, перенесших инсульт. Помимо кветиапина целесообразны тразодон или миртазапин при повышенной агрессивности, связанной с нарушением сна [25].
Постинсультная астения . У 23‒75% пациентов, перенесших инсульт, возникает патологическая утомляемость. Хотя не существует шкалы усталости, которая полностью учитывала бы сложную природу постинсультной астении, в исследованиях используются субъективная шкала оценки астении, шкала оценки градации тяжести усталости, визуальная аналоговая шкала, шкала усталости Чал-дера [3]. Неврологический дефицит, коморбидные заболевания, нарушения сна, боль — одни из наиболее важных факторов, связанных с постинсультной астенией. Хотя астения тесно связана с депрессией, у многих пациентов с астенией депрессии нет. В то время как неврологический дефицит приводит к астении и усталости от физической нагрузки в ранние сроки от дебюта инсульта, то при депрессии возникает хроническая усталость в более поздние сроки [26]. В отдельных исследованиях сообщалось о взаимосвязи повреждения определенных областей мозга, таких как медиальная префронтальная кора, базальные ганглии и ретикулярная формация ствола мозга и таламуса, и постинсультной астении. Однако более поздние исследования, основанные на МРТ, не выявили никакой связи между астенией и локализацией поражения [27]. В патогенезе патологической усталости предполагают значение хронического воспаления, измененной иммунной реакции после инсульта и генетического полиморфизма моноаминоксидазы-А [28].
Фармакотерапия постинсультной астении. В настоящее время еще нет достаточных доказательств эффективности любого вмешательства для лечения или профилактики постинсультной астении. Исследования были небольшими, связанными с риском предвзятости. СИОЗС неэффективны при лечении астении. Выяснено, что флуоксетин, дулоксетин, циталопрам и сертралин не купируют астению [29]. Небольшие серии случаев предполагают, что добавки витаминов или антиок- сидантов могут улучшить состояние пациентов с астенией. Изучается эффективность препарата модафинил, первоначально применявшегося для лечения пациентов с гиперсомнией или нарколепсией, в качественных исследованиях была выявлена высокая эффективность в снижении утомляемости и улучшении качества жизни по сравнению с теми, кто получал плацебо [30].
Обсуждение и заключение. Область знаний о постинсультном психоэмоциональном состоянии находится между неврологией и психиатрией, которая раньше не привлекала достаточного внимания ученых. В последнее время клиническая важность постинсультных психоэмоциональных синдромов получила широкое признание и во всем мире продолжаются исследования для правильного понимания распространенности, феноменологии и этиопатогенетических механизмов. Однако до сих пор имеются пробелы знаний и нерешенные вопросы в данной области.
Психоэмоциональные нарушения после инсульта проявляются по-разному и имеют сложный и не до конца изученный патогенез. Значимыми предрасполагающими факторами развития таких нарушений являются степень и обширность повреждения головного мозга, тяжесть неврологического дефицита, генетические особенности, тип личности, уровень социального статуса. Антидепрессанты, особенно СИОЗС, считаются лечением первой линии, их польза для некоторых групп пациентов может быть незначительной. Существует проблема в правильной оценке психоэмоциональных нарушений и адекватном интерпретировании имеющихся шкал из-за сопутствующих заболеваний при инсульте и спорных вопросов использования в остром периоде.
Таким образом, необходимо дальнейшее изучение патофизиологических механизмов психоэмоциональных расстройств в разные периоды инсульта для улучшения подбора терапии и терапевтических эффектов при разнообразных синдромах психоэмоциональных нарушений, именно специфичных для инсульта. Будущие исследования должны быть сосредоточены на разработке надлежащих инструментов оценки психоэмоционального состояния в остром периоде инсульта с учетом коморбидности. Очень важно уделить внимание изучению эффективности препаратов в клинических исследованиях не только на проявления депрессии, но и на симптомы других психоаффективных расстройств.
Список литературы Психоэмоциональные расстройства у пациентов, перенесших инсульт, и их современная фармакотерапия
- Emelin A. U., Lobzin V. U. Possibilities of combined use of peptides in the treatment of post-stroke asthenia // Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2023. Vol. 15. P. 117‒124.
- Hackett M. L., Kohler S., O'Brien J. T., Mead G. E. Neuropsychiatric outcomes of stroke // Lancet Neurol. 2014. Vol. 13, No. 5. P. 525‒534.
- Hinkle J. L., Becker K. J., Kim J. S. et al. Poststroke fatigue: Emerging evidence and approaches to management: A scientific statement for healthcare professionals from the Ameri-can Heart Association // Stroke. 2017. Vol. 48. P. 159‒170.
- Van Dijk M. J., de Man-van Ginkel J. M., Hafsteinsdóttir T. B., Schuurmans M. J. Iden-tifying depression post-stroke in patients with aphasia: a systematic review of the reliability, va-lidity and feasibility of available instruments // Clin Rehabil. 2016. Vol. 30. P. 795‒810.
- Hackett M. L., Pickles K. Part I: Frequency of depression after stroke: An updated sys-tematic review and meta-analysis of observational studies // Int J Stroke. 2014. Vol. 9. P. 1017‒25.
- Towfighi A., Ovbiagele B., El Husseini N. et al. Poststroke depression: A scientific state-ment for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Asso-ciation // Stroke. 2017. Vol. 48. P. 30‒43.
- Robinson R. G., Jorge R. E. Post-stroke depression: A review // Am J Psychiatry. 2016. Vol. 173. P. 221‒31.
- Wei N., Yong W., Li X. et al. Post-stroke depression and lesion location: A systematic review // J Neurol. 2015. Vol. 262. P. 81‒90.
- Gainotti G., Marra C. Determinants and consequences of post-stroke depression // Cur-rent Opinion in Neurology. 2002. Vol. 15. P. 85‒89.
- Sanchez C., Reines E. H., Montgomery S. A. A comparative review of escitalopram, paroxetine, and sertraline: Are they all alike? // Int Clin Psychopharmacol. 2014. Vol. 29. P. 185‒196.
- Mandrioli R., Protti M., Mercolini L. New-generation, non-SSRI antidepressants: Ther-apeutic drug monitoring and pharmacological interactions. Part 1: SNRIS, SMSS, SARIS // Cur-rent Medicinal Chemistry. 2018 Vol. 25. P. 772‒792.
- Miller E. L., Murray L., Richards L. et al. Comprehensive overview of nursing and inter-disciplinary rehabilitation care of the stroke patient: A scientific statement from the American Heart Association // Stroke. 2010. Vol. 41. P. 2402‒2448.
- Sagen U., Vik T. G., Moum T., Morland T., Finset A., Dammen T. Screening for anxiety and depression after stroke: Comparison of the Hospital Anxiety and Depression Scale and the Montgomery and Asberg Depression Rating Scale // J Psychosom Res. 2009. Vol. 67. P. 325‒332
- Lincoln N. B., Brinkmann N., Cunningham S., et al. Anxiety and depression after stroke: A 5 year follow-up // Disability and Rehabilitation. 2013. Vol. 35. P. 140‒145.
- Knapp P., Campbell Burton C. A., Holmes J. et al. Interventions for treating anxiety after stroke // Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017. No. 5. P. 154‒162.
- Kim J. S., Bashford G., Murphy T. K. et al. Safety and efficacy of pregabalin in patients with central post-stroke pain // Pain. 2011. Vol. 152. No. 5. P. 1018‒1023.
- Kim J. S., Choi-Kwon S. Disturbances in the voluntary control of emotional expression after stroke. // In: Ferro J. M., editor. Neuropsychiatric Symptoms of Cerebrovascular Diseases. Springer, 2013. P. 131‒160.
- Kim J. S., Choi-Kwon S. Poststroke depression and emotional incontinence: Correlation with lesion location // Neurology. 2000. Vol. 54, No. 9. P. 1805‒1810.
- Choi-Kwon S., Han S.W., Kwon S.U. et al. Fluoxetine treatment in poststroke depression, emotional incontinence, and anger proneness: A double-blind, placebo-controlled study // Stroke. 2006. Vol. 37. P. 156‒161.
- Peeters M., Romieu P., Maurice T. et al. Involvement of the sigma 1 receptor in the mod-ulation of dopaminergic transmission by amantadine // European Journal of Neuroscience. 2004. Vol. 19. P. 2212‒2220.
- Patatanian E., Casselman J. Dextromethorphan/quinidine for the treatment of pseudo-bulbar affect // The Consultant Pharmacist: the journal of the American Society of Consultant Pharmacists. 2014. Vol. 29. P. 264‒269.
- Choi-Kwon S., Han K., Cho K. H. et al. Factors associated with post-stroke anger prone-ness in ischaemic stroke patients // European Journal of Neurology. 2013. Vol. 20. P. 1305‒1310.
- Rosa P. B., Orquiza B., Rocha F. B. et al. Anger and stroke: A potential association that deserves serious consideration // Acta Neuropsychiatrica. 2016. Vol. 28. P. 346‒351.
- Kim J. S., Lee E. J., Chang D. I. et al. Efficacy of early administration of escitalopram on depressive and emotional symptoms and neurological dysfunction after stroke: A multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled study // The Lancet Psychiatry. 2017. Vol. 4. P. 33‒41.
- Fleminger S., Greenwood R. J., Oliver D. L. Pharmacological management for agitation and aggression in people with acquired brain injury // Cochrane Database of Systematic Reviews. 2006. P. 24‒32.
- Drummond A., Hawkins L., Sprigg N. et al. The Nottingham Fatigue after Stroke (Not-FAST) study: Factors associated with severity of fatigue in stroke patients without depression // Clinical Rehabilitation. 2017. P. 1–10.
- Kim J. S. Post-stroke mood and emotional disturbances: Pharmacological therapy based on mechanisms // Journal of Stroke. 2016. Vol. 18. P. 244‒255.
- Choi-Kwon S., Ko M., Jun S.E. et al. Post-stroke fatigue may be associated with the promoter region of a monoamine oxidase A gene polymorphism // Cerebrovascular Diseases. 2017. Vol. 43. P. 54‒58.
- Karaiskos D., Tzavellas E., Spengos K. et al. Duloxetine versus citalopram and sertraline in the treatment of poststroke depression, anxiety, and fatigue // The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 2012. Vol. 24. P. 349‒353.
- Bivard A., Lillicrap T., Krishnamurthy V. et al. MIDAS (modafinil in debilitating fatigue after stroke): A randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial // Stroke. 2017. Vol. 48. P. 1293‒1298.