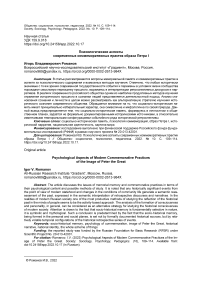Психологические аспекты современных коммеморативных практик образа Петра I
Автор: Романов Игорь Владимирович
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 10, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы мемориальной памяти и коммеморативных практик в аспекте их психологического содержания и возможных методов изучения. Отмечено, что любые исторически значимые с точки зрения современной государственности события и перемены в условиях жизни сообщества порождают смысловую переоценку прошлого, выражаясь в интерпретации ретроспективных дискурсов и нарративов. В реалиях современного российского общества одним из наиболее продуктивных методов изучения отражения исторического прошлого в сознании людей представляется деятельностный подход. Анализ становления сознания и личности в целом можно рассматривать как альтернативную стратегию изучения исторического сознания современного общества. Обращается внимание на то, что социально-историческая память имеет принципиально избирательный характер, она символична и мифологична по своей природе. Данный вывод предопределяется тем, что социально-историческая память, формируясь в личностном и общественном планах, задаётся не формально документированными историческими источниками, а относительно изменчивыми темпоральными конфигурациями событийного ряда исторической ретроспективы.
Социально-историческая память, психология коммемораций, образ петра i, исторический нарратив, национальная идентичность, картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/149141170
IDR: 149141170 | УДК: 159.9.018 | DOI: 10.24158/spp.2022.10.17
Текст научной статьи Психологические аспекты современных коммеморативных практик образа Петра I
Всероссийский научно-исследовательский институт «Градиент», Москва, Россия, ,
All-Russian Research Institute “Gradient”, Moscow, Russia, ,
Большая часть истории человечества, за небольшими исключениями, сопровождалась экологическими, нравственными, экономическими и политическими, социокультурными и демографическими кризисами общества. Осознание социальной неустойчивости, неопределённость в ожиданиях относительно ближайшего и тем более отдаленного будущего предопределяют важность процессов поиска исторической идентичности. Обращаясь к возрастной специфике общества, следует отметить, что наиболее сильную нагрузку в этом отношении испытывает молодое поколение, которое «в силу неустойчивости социальных позиций особенно остро ощущает потребность в подтверждении правильности своих действий ссылками на исторические образцы» (Аникин, 2014: 100).
Обращение к событиям и выдающимся историческим личностям, возрождение утерянных отношений прошлого и настоящего как тенденции общественного развития охватывают все возрастные категории социума.
По данным центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, осуществляющей мониторинг общественной памяти россиян об историческом прошлом, в большей степени сохраняются и удерживаются в общественном сознании те события, в результате которых укреплялась российская государственность. В первую очередь маркируется эпоха правления Петра Великого и личность первого российского императора. Л.Н. Мазур отмечает в этой связи, что восприятие современной молодёжью истории российского государства в значительной степени персонифицировано (Мазур, 2017). События прошлого ассоциируются в сознании людей с именами конкретных исторических личностей: «на первом месте по частоте упоминания стоит имя Петра I (14,3 %), реже – Александра II (4,02 %), Екатерины II (3,3 %), Романовых (3,3 %), Сталина (2,9 %), Путина (2,9 %), Гагарина (2,2 %), Рюрика (1,1 %), Ивана Грозного, Ленина и Столыпина (по 0,7 %)» (Мазур, 2017: 317). Большинство из названных личностей являются олицетворением определенной исторической эпохи, как правило, ознаменованной событиями, результатом которых стала территориальная экспансия и укрепление государственности.
В то же время необходимо отметить не вызывающий разночтений факт противоречивости исторических знаний современного общества. Как отмечают А.Н. Покида, Н.В. Зыбуновская, «историческая память не может воспроизводить события давних лет беспристрастно и объективно. Неточности, искажения формируются под воздействием политических, социальных и экономических условий» (Покида, Зыбуновская, 2016: 105). Иными словами, в отечественной истории практически не существует значимых с точки зрения становления государства времён, трактовка которых была бы однозначной.
В контексте данного исследования обращает на себя внимание методология анализа социальной и исторической памяти Д. Олика (Olick, Robbins, 1998). Специфика данного подхода заключается в том, что историческая память анализируется в динамическом аспекте. В центр внимания попадают не статичные исторические конструкты, а пространственно-временные процессы, влияющие на формирование социально-исторической памяти общества. В данном контексте она рассматривается как социальная деятельность, которая зависит не только от того общественного контекста, который сопровождает её формирование, но и от коммуникативных каналов трансляции исторической информации. Другими словами, социально-историческая память не продукт, а часть процесса самоопределения общества. Как отмечает Д. Олик, «историческая память – это не состояние, а процесс. Говоря о динамике или трансформации исторической памяти, мы имеем в виду не изменение самого содержания памяти, а изменение тех социальных конфигураций, которые вызывают к жизни различные наборы исторических фактов и их интерпретаций» (Olick, Robbins, 1998: 106).
В то же время память – это психический процесс, сопряжённый с сохранением и воспроизведением прошлого опыта, активацией и включением его в сферу сознания.
Не вызывает сомнений утверждение, что в функции памяти входит не только процесс фиксации информации, но её ранжирование. В частности, в оперативной памяти содержатся эмоционально окрашенные образы, актуальные здесь и сейчас. Следует оговориться, что в данном контексте речь идёт о памяти и отдельного человека, и целых общностей людей. В плане долговременной фиксации информации она хранит не только образы, но и не всегда актуальные в данный момент логические структуры. Очевидно, что в обществе функции долговременной памяти выполняют наука, искусство и религия. Именно в них документируются и сохраняются образы прошлого.
В контексте проводимого исследования примечательно, что в мемориальном пространстве России особенно выделяются имена трёх исторических личностей: первого Императора Всероссийского Петра Великого, организатора и вождя Коммунистической партии Советского Союза и международного коммунистического движения, основателя РСФСР В.И. Ленина и главы СССР И.В. Сталина.
С биографией Петра I связаны несколько музеев: резиденция Петра I в Летнем саду Санкт-Петербурга, Дом Петра I – первая постройка и жилище царя Петра I в период с 1703 по 1708 годы и музей-усадьба «Ботик Петра I» в селе Веськово Ярославской области. Несомненно, экспозиций, посвященных как эпохе Петра Великого, так и его личности, существенно больше, однако их всеобъемлющее рассмотрение не является задачей настоящего исследования.
Любые исторические воспоминания объективируются в сознании современников в репрезентациях, в некотором смысле представляя собой симулякры. Любые конфигурации образов прошлого обуславливаются продуманностью коммеморативных практик. С психологической точки зрения, актуализируя воспоминания, они изменяют формы поведения современников, придавая им новые значения.
Как отмечает О.Ю. Малинова, «коммеморация может иметь разную смысловую модальность: она необязательно является актом торжества, предполагающим отмечание/празднова-ние; она также может служить актом скорби/почитания памяти мертвых. Этим обусловлено заимствование иноязычного термина: в русском языке нет общего понятия для обозначения разных модальностей коллективного “вспоминания” прошлого. Во всех случаях публичное напоминание вписывает прошлое в контекст настоящего (актуализирует его) и тем самым подтверждает преемственность группы во времени» (Малинова, 2017: 10).
Коммеморация, будучи проявлением исторической памяти, представляет собой процесс отбора фактов, которые предаются «памяти» или «забвению». Очевидно, что приоритетом для «памяти» являются факты, представляющиеся важными с точки зрения современности. Отдельно следует отметить, что на логику выбора механизмов «памяти» или «забвения» влияют связанные с ними эмоции, и это представляет интерес с точки зрения психологии. Как отмечают Т. Энсинк и К. Соэр, «забвению, в частности, предаются чувства – ненависть, ресентимент, вина, триумф или реванш, наполняющие индивидуальную или коллективную память сильными эмоциями и не оставляющие места для других тем памяти», если они «более не представляются полезными» (The Art of Commemoration: Fifty Years after the Warsaw Uprising …, 2003: 7).
Отдельно следует сказать о том, что в современном информационном мире развёртывание и репрезентация образов прошлого смещаются в мобильное, децентрализованное социальное пространство, что предопределяет временную компрессию смены исторических объяснительных моделей и мифологического инструментария. По словам А.А. Линченко, «использование методологий деятельностного подхода к выявлению сущности массового исторического сознания актуализирует, во-первых, праксиологический аспект исследования, а во-вторых, проблему коммеморативных практик и их специфики в современном мире» (Линченко, 2015: 125–126).
В то же время исследователи обращают внимание на, то, что значимое влияние на восприятие прошлого современниками оказывают механизмы возникновения образов-гештальтов. Как отмечает И.Н. Ионов, «тут мы имеем дело с работой “мнемонических сообществ” и “социальным дизайном” (social shape) времени, которое приобретает различные формы: линейную или циркулярную, прямую и зигзагообразную, однолинейную и многолинейную; трактуется при помощи нарративных жанров – прогресса, упадка, повторяемости; обретает нарративную плотность (событийное – несобытийное время, преемственность и отсутствие преемственности), а также нарративную избирательность – появляются темпоральные возвышенности и плато» (Ионов, 2018: 36). В терминах гештальтпсихологии так «конструируются фигура и фон прошлого» (Zerubavel, 2004: 11). При этом первая «сосредоточивает на себе внимание и представляется цельной и понятной», а второй «выпадает из сферы внимания, распадается на элементы и зату-шевывается»1. Другими словами, с точки зрения психологического восприятия исторических ретроспектив, познавательная проблема заключается в недооценке содержания фона, включающего большие объёмы значимых фактов мировой истории.
Современное общество существует в пространстве всё возрастающих неопределённостей. Событийный ряд постоянно ускоряется и превышает по времени возможности адаптационных механизмов человеческой психики. Здесь следует обратить внимание на процессы, сопровождающие формирование современной социально-исторической памяти, которые провоцируют развитие мифологизации человеческого сознания. Обращаясь к исторической ретроспективе, можно отметить некоторую закономерность. Как отмечает О.Ю. Малинова, еще «Бердяев, как известно, утверждал, что русский народ развивался “катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа цивилизацииˮ; он насчитал “пять разных Российˮ: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую советскую Россию» (Малинова, 2013: 238).
В современном поле исследований психологии мифов не вызывает разногласий утверждение, что при рассмотрении вопросов исторической памяти они выступают ключевым элементом сознания, определяющим представления человека о прошлом. В многочисленных работах показано, что именно процессы ремифологизации позволяют остановить окончательный распад «картины мира» в условиях глобальных кризисов современного общества. Как отмечает А.Н. Кольев, «отступая в мифологическое пространство, психика человека опирается на архетипы состояния Хаоса и Порядка и их оппозиции; архетипы оценки – Света и Тьмы (Добра и Зла); архетипы отношения – Свое – Чужое, Мы – Они, архетип Чуда (преодоление оппозиций), архетипы происхождения – Демиурга-Творца, Матери-Природы и родственности – архетипы Отца, Матери, Братства (вместе с порожденными ими сюжетными оппозициями мужского и женского, отцовского и братского и т.д.)» (Кольев, 2003: 63), что позволяет найти новые модели для консолидации общества.
«Прошлое, а вернее, опыт прошлого, воплощается частично в знании о прошлом, а частично – в привычных моделях и схемах поведения» (Нора, 1999: 96). В то же время функциональные и репрезентативные возможности различных форм коммеморативных практик, о которых пишет П. Нора, имеют свои ограничения. Как уже было отмечено выше, историческое прошлое, отражаясь в сознании современников через преломление социокультурных репрезентаций, не является и не может являться однозначно интерпретируемым отображением фактического исторического материала. Поэтому предполагается, что единицей анализа социально-исторической памяти не может выступать формальный факт из прошлого, даже если он имеет документальное подтверждение. Например, отражаемый коммеморативными практиками образ Петра I или «место памяти» в постструктуралистском анализе П. Нора. Любой исторический феномен может быть проанализирован лишь как определённый конструкт субъект-объектных отношений. Очевидно, что не только личность присваивает транслируемый тип и содержание социальной памяти посредством тех или иных образовательных и коммеморативных практик, но и сами практики трансформируются с целью трансляции определенной «картины мира», заданной целями развития государственности и определенного социального порядка.
В этой связи следует отметить, что в реалиях современного российского общества одним из наиболее продуктивных методов изучения отражения исторического прошлого в сознании современников представляется деятельностный подход. Его можно рассматривать как альтернативную стратегию изучения исторического сознания современного общества. Как отмечают А.М. Медведев и И.В. Жуланова, «в обобщенную ориентировку деятельности – в хронотоп “образа мира”, – помимо трех пространственных и четвертого временного измерения входит “пятое” – измерение значений и смыслов» (Медведев, Жуланова, 2021: 3).
Современные исследователи считают, что социально-историческая память вне зависимости от того, персонифицирована она, например, образом первого российского императора в лице Петра I, или событийна, представая символом целой эпохи, например, Петровской, является не только социально дифференцированной и избирательной, но и изменчивой по своей природе. Как справедливо отмечает Л.П. Репина, «история самых разных культурно-исторических общностей знает множество различающихся по своим последствиям ярких примеров “актуализации прошлогоˮ, обращения к историческому опыту с целью его переосмысления с позиций и в интересах настоящего» (Репина, 2020: 14). Согласно глубокой и точной по формулировке мысли М.М. Бахтина, «нельзя изменить фактическую вещную сторону прошлого, но смысловая, выразительная, говорящая сторона может быть изменена, ибо она незавершима и не совпадает сама с собой (она свободна)» (Бахтин, 1986).
Любые исторически значимые с точки зрения современной государственности события и перемены в условиях жизни сообщества порождают смысловую переоценку прошлого, выражаясь в интерпретации ретроспективных дискурсов и нарративов. В контексте развития российского общества последних десятилетий практикой подтверждаются умозаключения о том, что чем глубже и радикальнее перемены в обществе, тем более кардинальными становятся трансформации образа прошлого в социально-историческом сознании. Именно во времена знаковых социальных, экономических и политических событий актуализируются психологические методы и подходы к анализу противоборствующих коммеморативных практик и нарративов. В частности, как отмечают А.Л. Журавлёв и Д.А. Китова, анализ социального окружения Петра I в научной литературе демонстрирует его амбивалентное восприятие как с исторической, так и с психологической точек зрения – социальные оценки личности и деятельности Петра I в зарубежной литературе многообразны: от апологетики до полного отрицания (Журавлёв, Китова, 2020: 57).
В психологическом плане восприятие личностью различных коммеморативных практик и исторических нарративов порождает выраженный эмоциональный отклик у человека. В этом плане показательными являются мифы о добре и зле, о войнах и битвах, выражаемых оппозициями отношений – свое – чужое, мы – они, получившие глубокий сравнительный анализ в «мифологии завоевателей» Питера Грея (The Memory of Catastrophe …, 2004).
Завершая краткий обзор психологических подходов к анализу социально-исторической памяти, мы солидарны с выводом, отражённым в многочисленных междисциплинарных работах, посвящённых проблемам мемориальной памяти и коммеморативных практик о том, что социально-историческая память имеет принципиально избирательный характер, символична и мифологична по своей природе. Данный вывод предопределяется тем, что, формируясь в личностном и общественном планах, она задаётся не формальными историческими источниками, а относительно изменчивыми темпоральными конфигурациями событийного ряда прошлого.
Список литературы Психологические аспекты современных коммеморативных практик образа Петра I
- Аникин Д.А. Трансформация исторической памяти в обществе риска // Люди и тексты. Исторический альманах. 2014. № 5. С. 83-108.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 444 с.
- Журавлёв А.Л., Китова Д.А. Социально-психологический анализ образа Петра I (по материалам научной электронной библиотеки) // Психологический журнал. 2020. Т. 41, № 6. С. 57-68. https://doi.org/10.31857/S020595920012589-3
- Ионов И.Н. Формы исторической памяти и проблемы идентификации // Историческая память и российская идентичность. М., 2018. С. 35-52.
- Кольев А.Н. Политическая мифология. Реализация социального опыта. М., 2003. 382 с.
- Линченко А.А. Коммеморативные практики и массовое историческое сознание: методологический аспект // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2015. № 2. С. 116-127.
- Мазур Л.Н. События советского прошлого в исторической памяти современной молодежи: механизмы формирования, поддержания и трансформации // Событие в истории, памяти и нарративах идентичности. М., 2017. С. 309-341.
- Малинова О.Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (журнал политической философии и социологии политики). 2017. № 4 (87). С. 6-22.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России. М., 2013. 421 с.
- Медведев А.М., Жуланова И.В. Деятельностный подход как ориентир современного образования: исходное содержание и риски редукции // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. Т. 9, № 2. С. 1-20.
- Нора П. Эра коммемораций // Франция-память. СПб., 1999. С. 95-150.
- Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Динамика исторической памяти в российском обществе (по результатам социологического мониторинга) // Социологические исследования. 2016. № 3 (383). С. 98-107.
- Репина Л.П. Историческая память и нарративы национальной идентичности: «практика истории на службе памяти» // Прошлое для настоящего: история-память и нарративы национальной идентичности. М., 2020. С. 11-36.
- Olick J., Robbins J. Social Memory Studies: From Collective Memory to the Historical Sociology of Mnemonic Practices // Annual Review of Sociology. 1998. Vol. 24, iss. 1. Р. 105-140. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1105.
- The Art of Commemoration: Fifty Years after the Warsaw Uprising / eds. by T. Ensink, C. Sauer. Amsterdam, 2003. 245 р. https://doi.org/10.1075/dapsac.7
- The Memory of Catastrophe / eds. by P. Gray, K. Oliver. Manchester, 2004. 225 p.
- Zerubavel E. Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago, 2004. 184 p. https://doi.org/10.7208/chi-cago/9780226924908.001.0001.