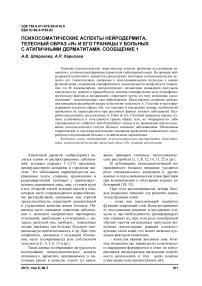Психосоматические аспекты нейродермита, телесный образ «я» и его границы у больных с атипичными дерматитами. Сообщение 1
Автор: Штрахова Анна Владимировна, Харисова Альбина Радиковна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Клиническая (медицинская) психология
Статья в выпуске: 3 т.6, 2013 года.
Бесплатный доступ
Описаны психологические теоретические аспекты проблемы исследования пациентов с атопическими формами дерматитов (заболеваний кожи). На примере нейродермита (атипичного дерматита) рассмотрены некоторые психосоматические аспекты его этиопатогенеза, связанные с психодинамическим подходом к оценке функций кожи, содержания специфического эмоционального конфликта (в понимании его Ф. Александером), психологических механизмов подавления импульсов сексуальности, тревоги и враждебности, описана специфическая роль психофизиологического фактора в поддержании «порочного круга» по типу механизма «десоматизации - ресоматизации» при нейродермите. Представлены основные положения концепции российской школы психологии телесности А. Тхостова в части формирования телесного образа «Я», его внешних и внутренних границ, особенностей проявления их характеристики при различных формах кожных заболеваний. Подробно рассмотрены предложенные S. Fisher & S.E. Cleveland принципы оценки степени устойчивости и отчетливости границ образа тела, их «барьерности» либо «проницаемости» («Barrier» and «Penetration» scores) и их применение при исследовании психологического статуса больных кожными заболеваниями. Обоснованы теоретические и психодиагностические основания проведения клинического эмпирического исследования больных с атипическими дерматитами.
Нейродермит, психосоматические расстройства, психодинамика, психология телесности, телесный образ "я", границы телесности
Короткий адрес: https://sciup.org/147159861
IDR: 147159861 | УДК: 159.9.07+616.05+616.5
Текст научной статьи Психосоматические аспекты нейродермита, телесный образ «я» и его границы у больных с атипичными дерматитами. Сообщение 1
Атипичный дерматит (нейродермит) является одним из распространенных заболеваний, которым страдает 1–1,5 % населения, преимущественно женщины и городские жители. Эти заболевания характеризуются выраженным зудом, упорным, хроническим и рецидивирующим течением с преимущественным поражением лица, шеи, суставов руки и ног, областей локтей, коленей, кистей и стоп, которые часто сопровождаются невротическими расстройствами, снижением или утратой трудоспособности, социальной дезадаптацией и ухудшением качества жизни больных. Пациенты часто связывают появление заболевания с наличием конфликтных партнерских отношений, проблемами в отношениях с матерью, разлукой или, наоборот, появлением людей, имеющих для больных большую эмоциональную притягательность и др. При этих конфликтах, связанных с ситуацией сближения, часто подчеркивается роль собственной телесности [1, 4, 5, 6, 13 и др.].
Такие данные подчеркивают актуальность исследования психосоматического аспекта атипичного дерматита, признаваемого в настоящее время в качестве одного из самых ярких примеров типичных психосоматических расстройств [1, 5, 8, 12, 14, 15, 22 и др.].
В публикациях психоаналитической направленности большое внимание уделяется роли эмоционального конфликта и других важных в психодинамическом плане факторов при возникновении и обострении кожных заболеваний [18, 33].
При этом рассматриваются четыре базовых (имеющих значение для развития дерматозов) функции кожи:
– кожа как выполняющий защитную функцию покровный слой. Кожа воспринимает поступающие внешние и внутренние стимулы и, при необходимости, трансформирует или отражает их; при этом роль своеобразной «брони» против вытесненных импульсов выполняет вазомоторные реакции соответствующих слоев кожи, что может являться пусковым фактором появления;
– кожа как важная эрогенная зона. Кожные изменения как эквиваленты соматического выражения формируются в ответ на повторяющееся неоднократное вытеснение потребности использовать в этих целях кожную стимуляцию (или препятствовать ей);
– кожа как видимая поверхность организма, на которой происходит выражение конфликтов, связанных с эксгибиционизмом. При этой функции предпосылками кожных заболеваний служат проявления бессознательных конфликтов, обнаруживаемые в фобиях по поводу своей внешности, необходимости общения и публичности, перверсивного эксгибиционизма;
– кожа как место локализации эквивалентов тревоги. В случае неспособности больных адекватно отреагировать на собственное напряжение возникает тревога, амбивалентно вызывающая отвержение, и необходимость защиты от нее, которая должна быть пропорциональна силе этой тревоги; в случае нарушения такого баланса и «психодинамического» равновесия может возникать состояние зуда [17, 28].
В психосоматике сохраняет свою актуальность одно из базовых теоретических положений Ф. Александера о ведущей роли в манифестации патогенетических механизмов психосоматических заболеваний общих (для разных людей) и одновременно специфичных (для определенной патологии) неосознанных эмоциональных конфликтов (по сравнению с ролью индивидуальных особенностей) [1]. В случае зудящих дерматозов, сопровождающихся саморасчесами, специфическим (как в психодинамическом, так и патогенетическом понимании) фактором рассматривается подавление агрессивных и сексуальных тенденций при невозможности самостоятельно контролировать собственные эмоциональные устремления. Более того, зудящие дерматозы являются достаточно информативной иллюстрацией другого положения теории Ф. Александера – включения врожденных либо приобретенных патофизиологических расстройств в патогенетические механизмы психосоматических нарушений в качестве «промежуточного» звена между сугубо психологическими (в частном случае – специфическими эмоциональными конфликтами) и сугубо соматическими механизмами. Влияние этого промежуточного звена, объединяющего в себе физиологические и нервно-психические связи регуляции деятельности организма, провоцируется и поддерживается, с одной стороны, психогенными факторами, и с другой стороны, при длительной ретенции, приводит к реальным морфологическим изменениям органа [29]. Именно психофизиологический фактор поддерживает существование известное в клинической практике явле- ние «порочного круга» взаимосвязи симптомов. В частности, при зудящих дерматозах постоянное расчесывание под воздействием стресса ведет к изменению структуры и целостности кожного покрова и кожной чувствительности к внешним раздражителям [28], что, в свою очередь, добавляет соматический компонент к ранее сформировавшемуся психологическому стимулу для расчесывания.
Психодинамические представления, учитывающие мультифакторную природу этих расстройств, опираются на точку зрения о том, что расчесывание при таких дерматитах представляет собой эротизированный способ справиться с агрессией [1, 8, 17, 18, 20]. При этом расчесывание не всегда вызывается наличием зуда, а представляет собой своеобразную моторную разрядку состояния эмоционального напряжения, вызванного затруднениями или интенсивной концентрацией. Такое расчесывание на фоне отсутствия зуда, тем не менее, может спровоцировать появление зуда как за счет механических повреждений, так и за счет актуализации механизмов описанного выше «порочного круга». В некоторых случаях пациенты «совершенствуют» свою «технику расчесывания», с помощью которой вызывают ощущение умеренной боли, сопряженной с появлением переживания чувства удовольствия, что может быть проинтерпретировано как эквивалент мастурбации.
В литературе по проблеме психодинамических аспектов кожных заболеваний представлена точка зрения о том, что некоторые формы крапивницы и экземы могут быть связаны с кожной эротикой, поскольку особенно часто возникают и рецидивируют там, где почву для них подготовила конституционально повышенная эротичность [9]. На фоне наличия такой повышенной эротичности зуд и расчесывание могут предоставить возможность для кожного эротического удовлетворения, а применение мази также может быть направлено на удовлетворение эротических потребностей [17].
На примере психоаналитических представлений о роли кожи в формировании расстройств психосоматического спектра можно проследить специфику всех аспектов человеческой сексуальности, причем каждая фаза инфантильной сексуальности придает проблеме кожной эротики особенный колорит. Так, оральная эротика в генезе кожных расстройств проявляется на первом году жизни, поскольку либидинизация кожных покровов приводит к усилению потребностей у ребенка, в удовлетворении которых он от матери получает отказ. Несомненно значение анальной эротики при многих кожных заболеваниях, поскольку пациенты считают себя грязными, испачканными, испытывают потребность отмывать свою кожу, держать ее в чистоте. Расчесывание приводит к появлению амбивалентных ощущений мучительной болезненности и, одновременно, чувства удовольствия, которые дополняются выполняющими роль наказания представлениями о себе – неприглядном или уродливом человеке.
При таком варианте психосоматического симптомообразования очевидно проявляются садомазохистские тенденции, присутствующие почти у всех пациентов с хроническим зудом. Так, внезапное возникновение псориаза может наблюдаться у лиц с обращенными против собственного Эго садистическими импульсами, при том, что псориаз, собственно, не является «конверсионным симптомом», поскольку при этом не получившие разрядки конкретные садистические усилия воздействуют на кожу через нарушение химических и нервных процессов в коже. Кожные симптомы при псориазе также могут также рассматриваться как отступление к пассивности, а с учетом их традиционной локализации – к мазохистскому эксгибиционизму симптомов [17]. В то же время пациенты с нейродермитом стремятся избежать какой-либо демонстрации пораженных областей кожи (особенно, если такие поражения локализуются на традиционно неприкрытых одеждой участках), что свидетельствует не только о наличии у них сформированного повышенного чувства стыда, но и имеющейся у них выраженной защите от эксгибиционистских тенденций [30, 32].
Таким образом, в психоаналитической литературе рассматриваются различные психосоматические факторы этиопатогенеза атипичных дерматитов (в частности, псориаза и атопического дерматита), в возникновении и обострении которых большую роль играет вытеснение агрессивных импульсов и фрустрация конкурентных установок. При этом следует отметить особое внимание специфическому (с психосоматических позиций) фактору этиопатогенеза и клиники кожных заболеваний – проблеме расчесывания, в рамках содержания которой зуд и его подавление рассматривается как исполнение функции регуляции вытесненной агрессии, тревоги или сексуальности.
Другой аспект современных представлений психосоматической проблемы атипичных дерматитов связан с их изучением с позиций концепции телесности в отечественной психологии [3, 4, 6, 10, 11, 21, 22, 25–27 и др.]; подходов к исследованию образа физического «Я», образа тела, его границ и границ «Я», интерпретируемых в рамках психодинамической парадигмы [2, 7, 20, 31].
При этом важным отправным моментом такого рода клинико-психологического исследования является предположение о том, что границы телесности у больных заболеваниями кожи, с одной стороны, определяются психосоматическим вариантом взаимодейст- вия субъекта с окружающим миром, и, с другой стороны, влияют на характер психосоматического функционирования пациентов.
В психологии телесности широко используется понятие о границах телесного образа «Я», которые являются непременным условием человеческого существования. Необходимо отметить, что эта граница не совпадает с границей физического тела, очерченной кожей. Осознание границ своего тела является первой ступенью индивидуализации. Психическое развитие есть, по сути, выстраивание «второй кожи» и формирование пространства между первой и второй кожей, т.е. психологической границы [10, 11].
Граница не должна полностью изолировать тело, ибо при этом устраняется ее посредническая функция между телом и средой. Обычно границей телесности становится определенный телесный конструкт, берущий на себя функцию перехода-препятствия между пространством тела и средой, не имеющий четких анатомических коррелятов.
Одной из особенностей восприятия границ тела для воспринимающего субъекта является существование внутренней его стороны (и, как следствие, внутренней его границы), которые, в отличие от восприятия любого другого объекта, очевидны для самого индивида, но невидимы, не воспринимаются другими, а потому не рефлексируются социально. При этом внутренняя граница телесности выполняет следующие функции:
-
1) разделение внешнего и внутреннего (защита внутреннего от внешнего и наоборот);
-
2) соединение внешнего и внутреннего (контакт, переход, взаимодействие между ними);
-
3) конституирование телесной целостности;
-
4) полагание самобытия в мире.
Функционирование внутренней границы телесности опосредуется наличием определенных ее характеристик (например, ее сфор-мированности, контролируемости и сензитивности), поддержание которых на необходимом уровне требует реализации определенных стратегий. Например, используются стра- тегии «подчеркивания», повышения отчетливости внутренней границы – при недостаточной ее сформированности; стратегии «стабилизации», снижения частоты спонтанных изменений внутренней границы – при недостаточной ее контролируемости, проявляющейся в ее лабильности и неустойчивости; снижения интенсивности контакта с внешним миром и «прикрытия» границы путем создания дополнительной защитной мембраны между внутренней границей телесности и внешними воздействиями – при повышенной проницаемости и гиперсензитивности оболочки и т.д. Низкая или недостаточная чувствительностью внутренней границы компенсируется стратегией привлечения дополнительной внешней стимуляции, повышения интенсивности внешних воздействий на малочувствительную оболочку. Пониженная, недостаточная проницаемость внутренней границы телесности вызывает появление регуляторного феномена, проявляющегося в «открытии» границы, усилении потока двусторонней коммуникации [25].
В целом принято считать, что границы «Я» необходимы для нормального существования и функционирования личности, ее контакта с окружающим миром. Они отделяют, защищают человека от окружающей среды и в то же время соединяют, обеспечивают взаимодействие между ними. С помощью границ субъект осваивает схему тела, получает телесные ощущения, определяет свое место в мире. При этом выделяются два типа границы. Граница первого типа не принадлежит только телу или только среде и представляет собой «чистый переход от одного к другому». Граница второго типа реально принадлежит телу в качестве ограничивающего его «вещественного» контура, конституирующего телесность, организующего тело, формирующего телесное единство. Именно этому типу границы соответствует понятие «внутренней границы телесности», появившееся в психологии телесности в рамках феноменологического подхода к ней, отражающее феноменальное переживание телесной зоны контакта с окружающим миром, которая является изменчивой и подвижной. Внутренняя граница телесности может не совпадать с рамками тела-объекта и даже выходить за ее внешнюю границу, образуя при этом несколько слоев, в качестве которых могут выступать само тело, одежда и предметная среда и даже некоторая часть близкого к ним окружающего пространства, которые в некоторых случаях даже мо- гут приобретать функции «внешних слоев» внутренней границы телесности [3, 10, 13, 27].
Вопрос о границах «Я» в современной психологии в целом сводится к проблеме определения различных их измерений через ряд противоположностей. Несмотря на отсутствие четкого понятийного аппарата и общей теории, границы «Я» всегда рассматриваются как дихотомии.
В отечественной психологии описание проблемы телесных границ и ее развитие в парадигме психологии телесности связано с именем А.Ш. Тхостова, в публикациях которого освещено современное состояние и прочтение этой проблемы [4, 22, 26, 27]. Одним из концептуальных ее положений является мнение о том, что полностью подчиненное субъекту тело является своеобразным «универсальным зондом», которое должно осознаваться лишь в рамках своих границ, разделяющих мир и субъекта, и своими границами, сопряженными с границами мира. При этом границы телесности можно рассматривать как многомерное пространство, в котором субъ-ект-объектные отношения в топологическом плане сбалансированно представлены в его определенной области таким образом, что они уже не могут рассматриваться как «мое», и, во-вторых, еще не могут быть отнесены ко «мне-непренадлежащему». Такая плоскостная структура как бы разделяет субъект и объект, граница между которыми может пониматься как «мембрана», осознание которой необходимо для взаимодействия субъекта с окружающей средой. Поэтому в более узком смысле установление границы телесности означает определение субъектом рамок контакта между собой и окружающим миром, при котором внешняя граница определяет объективное взаимодействие внешнего мира и человека, а внутренняя – субъективное ощущение человеком того, «где он заканчивается».
Исследования связи между отчетливостью границ образа тела и психопатологическими состояниями являются сегодня уже классическими. Вслед за З. Фрейдом, описывавшим шизофрению как следствие нарушения процесса разделения «Я» и внешнего мира вследствие регресса на более ранний этап развития, S. Fisher & S.A. Cleveland опубликовали данные о более низких показателях «барьера» в группе больных шизофренией (по сравнению с данными групп «нормы» и больных неврозами) и обратных соотношениях для показателя «проницаемости». Вместе с тем, в дальнейшем описаны результаты исследования больных параноидной шизофренией, у которых границы образа тела имеют четкий характер, с завышением индекса барьера, что объясняется их ригидной позицией по отношению к внешним воздействиям. Дальнейшие исследования позволили обнаружить другие аспекты феномена границы образа тела. Например, было установлено, что пациен- ты с тревожно-фобическими расстройствами демонстрируют более высокий индекс проницаемости; лица с отчетливыми границами переживают стресс менее интенсивно, чем обладающие слабыми границами образа тела; страдающие ожирением имеют слабые, неотчетливые границы образа тела и воспринимают свою жировую ткань как защитный слой, усиливающий недостаточно отчетливые границы [3].
В связи с вышеизложенным особое значение имеет изучение представлений об образе «Я» и границах телесности у больных с заболеваниями кожи. Кожу как морфологическую структуру, фиксирующую внешнюю поверхность тела, можно рассматривать как форму «объективации» и «морфологизации» внешней границы телесности. В топологическом плане кожа (кожная оболочка) является определенным «геометрическим местом точек», плоскостью, в пределах которой заканчивается человеческое тело и начинается окружающая среда. При этом для субъекта и функционирования его психического аппарата кожа может принимать определенное символическое значение: с одной стороны, она защищает его от внешних влияний и факторов, и, с другой стороны, служит средством контакта и коммуникации.
В зависимости от состояния мира и состояния субъекта психологическая граница способна менять свои характеристики (плотность, проницаемость, толщину, форму), обеспечивая тем самым адекватное либо неадекватное взаимодействие человека с окружающим миром, и приобретать при этом признаки своеобразного «функционального органа», сформированного усилиями самого человека в процессе его жизненного пути. При этом формирование такого «функционального органа» представляет собой, по мнению П. Шилдера, непрерывный динамический процесс установления границы между собой и внешним миром, исключающий возможность статичного переживания в отношении своей кожи [29].
При кожных заболеваниях психическое функционирование субъекта как бы регрессирует до характерного для младенчества уровня, при котором кожные покровы «используются» ребенком как способ специфической коммуникации с окружением и соматического отреагирования непереносимых аффектов, прежде всего при проблемах выстраивания контакта с окружающим миром. При этом амбивалентно обнаруживается либо зависимость от внешнего, привязанность и стремление к субмиссивности (подчиненности), либо формируются достаточно жесткие, непроницаемые границы, препятствующие интимному контакту с внешней средой и значимыми Другими. Как следствие, при нарушении тополо-гически-пространственных отношений с собственными границами на соматическом уровне может начинаться развитие заболевания кожи. В патогенетическом плане важно, что в случае недостаточной способности взрослого субъекта к эффективной интрапсихической переработке определенных болезненных для индивида переживаний и бессознательных конфликтов, проявляющейся блокированием вовлечения символических и языковых структур в психическую переработку, такие конфликты находят свое выражение в телесном эквиваленте, проявляясь в форме кожного заболевания.
Таким образом, кожное заболевание, с одной стороны, препятствует физическому и личностному проникновению психотравмати-зирующего фактора, а с другой, обнажает и разрушает границы тела, и, в определенном смысле, трансформирует образ «Я», иллюстрируя беззащитность и подверженность («проницаемость») субъекта психогенному воздействию. При этом болевой фактор кожных заболеваний в патогенетическом плане несколько отличается от такового при других психосоматических расстройствах (боль вызывается не столько собственно болезнью, сколько интенсивным расчесыванием кожи). Тем не менее, с позиций психологии телесности, ощущение боли имеет центральное значение в возникновении и развитии кожных заболеваний, поскольку оказывает содействие в очерчивании для субъекта его телесных границ, следовательно, имеет отношение к понятию «окутывания Я объектом» [16–18].
Определенным подтверждением такого вывода являются результаты некоторых исследований, указывающие на существенные различия в психическом статусе таких пациентов, [8, 14, 19, 24]. В тоже время исследования особенностей границ телесного образа «Я» у больных с различными формами кожных заболеваний относительно редки [18, 19, 23, 32]. Сравнительный анализ основных исследованных характеристик границ (например, их плотности, проницаемости, толщины, формы и т. п.) показывает, что у больных атопическим дерматитом границы «Я» тонкие, проницаемые, рыхлые; рваные границы характеризуются также гибкостью и слабостью.
У больных псориазом, напротив, наблюдаются толстые, плотные, ригидные границы с низкой проницаемостью.
Как следствие, с таких позиций кожные заболевания могут рассматриваться как проявление определенной психологической неспособности решать проблемы, возникающие в ситуации неудовлетворенности потребности в значимом объекте, а также как своеобразное бессознательное феноменологическое подтверждение нарушения границ тела, разграничивающих субъекта от других, проявление прорыва барьера, защищающего от слияния и бессознательной фантазии быть поглощенным [16].
Резюме
Психодинамические аспекты представлений об атопических дерматитах включают в себя понимание необходимости изучения роли общих и специфичных неосознаваемых эмоциональных конфликтов, психологических механизмов подавления агрессивных, сексуальных тенденций и импульсов враждебности (включая их кожно опосредованные эротизированные варианты и фазно проявляющиеся эквиваленты стадий инфантильной сексуальности, проявления садомазохистиче-ских тенденций в их психоаналитическом понимании и др.). Рассматриваемые с психоаналитических позиций значимые для развития дерматозов базовые функции кожи (выполнение функций защиты, локального отображения эквивалентов тревоги и выражение связанных с эксгибиционизмом конфликтов, участие в эрогенной стимуляции) могут быть адекватно включены в мультифакторную систему этиопатогенеза психосоматических вариантов таких расстройств. При этом находит свое место и объяснение роли промежуточных патофизиологических механизмов, поддерживающих «порочный круг» в рамках известного в психосоматике феномена «десоматизации – ресоматизации». В рамках этого феномена в случае зудящих форм дерматозов находят объяснение особенности психологических стимулов и механизмов, лежащих в основе моторной разрядки состояния актуального эмоционального напряжения и актуального эмоционального конфликта, эротизированных способов подавления агрессии, проявлений эквивалентов мастурбации, тенденций проявления и подавления импульсов враждебности, садомазохизма и эксгибиционизма. При этом особое внимание уделяется специфической для кожных заболеваний проблеме расчесывания, в рамках которой зуд и его подавление рассматривается как исполнение функции регуляции вытесненных импульсов.
С другой стороны, с позиций психологии телесности атопические дерматиты могут рассматриваться как адекватные и информативные модели, иллюстрирующие роль феноменов телесного образа «Я», его внешних и внутренних границ в норме и при их нарушениях. Границы телесности (в случае их адекватной сформированности) отделяют, защищают человека от окружающей среды и в то же время, соединяют, обеспечивают взаимодействие личности и среды. Эти границы позволяют субъекту выстраивать телесную схему своего «Я», а также получать, дифференцировать и систематизировать телесные ощущения, определять свое место в мире. В целом уровень сформированности внешней и внутренней границ, их индивидуальные характеристики (форма, плотность, проницаемость) предопределяют личностные черты и предрасположенность к определенным нозологиям. Материалы корреляционных клинических исследований свидетельствуют о наличии тесной связи между личностными характеристиками, с одной стороны, и степенью определенности границ образа тела, соотношении индексов «барьера» и «проницаемости», а интерпретация таких взаимосвязей с позиции психологии телесности позволяет определить некоторые важные для клинической психодиагностики и психологической терапии и коррекции характеристики адаптивности, автономности, защитно-приспособительного поведения, участия в социальных контактах, типы психосоматического реагирования на эмо-циогенные стимулы, опирающиеся на особенности представления в сознании границ внутренних органов и т. п.
Такого рода дуальный характер клиникопсихологических представлений об атопических дерматитах позволяет рассматривать их не только как следствие неудовлетворенности потребности в близком объекте, но и как проявление бессознательного подтверждения нарушения телесного образа «Я» и его внешних и внутренних границ, определяющих соотношения между индивидуумом и другим.
В связи с вышеизложенным может быть выдвинуто предположение о том, что у больных с различными формами атипичных дерматитов существуют отличительные особенности телесного образа «Я» и характеристик его границ. При этом специфика субъективного отражения кожного заболевания в психике и поведении больных в определенной мере определяется специфическими факторами таких заболеваний: наличием косметического дефекта внешности и степени его выраженности, наличием хронического кожного зуда и практики его подавления с помощью расчесывания.
Описанные выше теоретические положения и материалы их анализа были положены в основу программы клинико- и экспериментально-психологического исследования группы больных нейродермитом и псориазом, имевшем своей целью изучение телесного образа «Я» и характеристик его границ, некоторых важных в психодинамическом плане индивидуально-психологических характеристик личности таких больных. Материалы такого эмпирического клинического исследования будут представлены в следующей публикации.
Список литературы Психосоматические аспекты нейродермита, телесный образ «я» и его границы у больных с атипичными дерматитами. Сообщение 1
- Александер, Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение/Ф. Александер; пер. с англ. С. Могилевского. -М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. -352 с.
- Аммон, Г. Динамическая психиатрия/Г. Аммон. -СПб.: Институт им. В.М. Бехтерева, 1995. -200 с.
- Бескова, Д.А. Клинико-психологические характеристики внешней и внутренней границ телесности (на модели соматофорных расстройств): дис.. канд. псих. наук/Д.А. Бескова. -М.: МГУ им. Ломоносова, 2006. -220 с.
- Бескова, Д.А. Телесность как пространственная структура/Д.А. Бескова, А.Ш. Тхостов//Психология телесности между душой и телом. -М.: АСТ, 2007. -С. 236-252.
- Бройтигам, В. Психосоматическая медицина: Краткий учебник/В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад; пер. с нем. Г.А. Обухова, А.В. Бруенка. -М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. -376 с.
- Газарова, Е.Э. Психология телесности/Е.Э. Газарова. -М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002. -192 с.
- Дорожевец, А.Н. Исследование образа физического Я: некоторые результаты и размышления/А.Н. Дорожевец, Е.Т. Соколова//Телесность человека: междисциплинарные исследования. -М., 1991. -С. 67-70.
- Дороженок, И.Ю. Психодерматология (психосоматические аспекты хронических дерматозов)/И.Ю. Дороженок//Психические расстройства в общей медицине. -2008. -№ 1. -С. 41-47.
- Задгер, И. Эротика кожи, слизистой и мышц/И. Задгер//Психология и психопатология кожи: тексты. -Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 2011. -С. 7-40.
- Киященко, Л.П. О границах телесности человека/Л.П. Киященко//Телесность человека: междисциплинарные исследования. -М., 1991. -С. 7-12.
- Колоскова, М.В. Онтогенез телесности и развитие общения: на пути к разделению Я -не Я/М.В. Колоскова//Телесность человека: междисциплинарные исследования. -М., 1991. -С. 74-84.
- Кулаков, С.А. Основы психосоматики/С.А. Кулаков. -СПб.: Речь, 2007. -287 с.
- Леви, Т.С. Психологическая граница как телесный феномен/Т.С. Леви. -http://telesnost. ru
- Любан-Плоцца, Б. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике/Б. Любан-Плоцца. -СПб.: Санкт-Петербургский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 2000. -288 с.
- Малкина-Пых, И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога/И.Г. Малкина-Пых. -М.: Эксмо, 2005. -992 с.
- Марти, П. Аллергические объектные отношения/Пьер Марти//Психология и психопатология кожи: тексты. -Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 2011. -С. 115-127.
- Масэф, Г. Психодинамика при состояниях зуда/Г. Масэф//Психология и психопатология кожи: тексты. -Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 2011. -С.134-141.
- Миллер, М. Психодинамические механизмы в случае нейродермита/М.Миллер//Психология и психопатология кожи: тексты. -Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 2011. -С. 76-94
- Миченко, А.В. Атопический дерматит и стресс: психосоматические соотношения/А.В. Миченко//Психические расстройства в общей медицине. -2009. -№ 2. -С. 23-27
- Очерки динамической психиатрии. Транскультуральное исследование/под ред. М.М. Кабанова, Н.Г. Незнанова. -СПб.: Институт им. В.М. Бехтерева, 2003. -438 с.
- Подорога, В.А. Феноменология тела/В.А. Подорога. -М.: Ad Marginem, 1995. -341 с.
- Психосоматика: телесность и культура: учебное пособие для вузов/под ред. В.В. Николаевой. -М.: Академический проект, 2009. -310 с.
- Пухлов, В.Г. Особенности групповой психотерапии в условиях стационара с пациентами, страдающими от кожных заболеваний/В.Г. Пухлов//Журнал практической психологии и психоанализа. -2010. -2 июня.
- Смулевич, А.Б. Психические расстройства в дерматологической клинике/А.Б. Смулевич//Психические расстройства в общей медицине. -2006. -№ 1. -С. 14-19.
- Трунов, Д.Г. Феноменология телесной границы/Д.Г. Трунов//Психология телесности: теоретические и практические исследования. -Пенза: ПГПУ, 2009. -С. 25-33.
- Тхостов, А.Ш. Психология телесности/А.Ш. Тхостов. -М.: Смысл, 2002. -287 с.
- Тхостов, А.Ш. Топология субъекта/А.Ш. Тхостов//Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология. -1994. -№ 2. -С. 3-13.
- Фенихель, О. Кожа/О. Фенихель//Психология и психопатология кожи: тексты. -Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 2011. -С. 71-75.
- Шилдер, П. Заметки о психофизиологии кожи/П. Шилдер//Психология и психопатология кожи: тексты. -Ижевск: ERGO; М.: Когито-Центр, 2011. -С. 41-55.
- Greenhill, M. Neurotic symptoms and emotional factors in atopic dermatitis/M. Greenhill, J. Finesinger//Arch. Derm. Syph. -1942. -Vol. 46. -P. 187-193.
- Fisher, S. Body image end personality/S. Fisher, S.E. Cleveland. -Princeton: Van Nostrand, 1958.
- Miller, M.L. Psychodynamic mechanisms in a case of neurodermatitis/M.L. Miller//Psychosomatic Medicine. -1948. -Vol. X. -P. 309316.