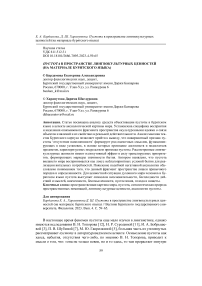Пустота в пространстве лингвокультурных ценностей (на материале бурятского языка)
Автор: Бардамова Е.А., Харанутова Д.Ш.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу средств объективации пустоты в бурятском языке в аспекте аксиологической картины мира. Установлена специфика восприятия и наделения описываемого фрагмента пространства окультуренными идеями о связи объектов и явлений и их свойствах в реальной действительности. Анализ массива текстов Бурятского корпуса позволяет прийти к выводу, что инвариантный признак пустоты ‘отсутствие наполненности’ формирует ряд оценочных смыслов, функционирующих в виде установок, в основе которых признание достоинств и недостатков предметов, характеризуемых посредством признака пустоты. Рассмотренные лингвокультурные ценности имеют иллокутивный эффект в силу транслируемых приоритетов, формирующих маркеры значимости бытия. Автором выявлено, что пустота внешнего мира воспринимается как локус неблагоприятных условий бытия для реализации витальных потребностей. Появление подобной негативной аксиологии обусловлено пониманием того, что данный фрагмент пространства лишен привычного порядка и определенности. Для ценностной ситуации духовного мира человека в бурятском языке пустота выступает символом неосновательности, бесплодности действий и мыслей, никчемности, бессмысленности, пустословия, голода и нищеты.
Пространственная картина мира, пустота, онтологическая природа пространственных номинаций, лингвокультурные ценности, аксиология пустоты
Короткий адрес: https://sciup.org/148328066
IDR: 148328066 | УДК: 811.512.31 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-4-59-65
Текст научной статьи Пустота в пространстве лингвокультурных ценностей (на материале бурятского языка)
Бардамова Е. А., Харанутова Д. Ш. Пустота в пространстве лингвокультурных ценностей (на материале бурятского языка) // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 4. С. 59‒65.
В настоящее время феномен пустоты еще мало изучен в лингвистике, однако имеются исследования В. Н. Топорова [12], Н. Р. Суродиной [11], И. А. Бобрышевой [3], П. В. Шубиной [7], М. Ю. Гаврилкиной [5], большая часть из упомянутых рассматривает пустоту в литературоведческом аспекте. Осмысление пустоты как хаоса, небытия, отсутствия чего-либо, по мнению В. Н. Топорова, приводит к мысли о том, что: «она не только вовне, но и то здесь, то там прорастает изнутри и как бы соблазняет, подталкивает к принятию мысли об онтологичности “минус”-явлений, о бытии небытия, “нетов”, “минусов”, страшных фантомов, отрицающих жизнь и ее пространство, свободу и, значит, человека, если только он не согласен рабствовать небытию» [12, c. 50].
Пустота как абстракция практически не встречается в бурятском языке. В актуализации пустого пространства принимают участие прилагательные с инвариантным признаком отсутствия необходимого содержимого в объекта номинации: сул губи ‘ пустыня’ ( букв . слабая земля); хооhон (хии) талмай (или газар) ‘пустырь ’ ( букв . пустое место, пустая земля); хооhон газар, эзэгγй газар ‘пустошь’ ( букв . пустая, бесхозная земля); холо хээрын сγмэ ‘пустынь’ ( букв . монастырь в далекой безлюдной местности)1. Наиболее абстрагированное представление о пустоте заключено в семантике лексемы хии ‘воздух, пустота’ . В донаучной картине мира бурят воздух выбирается в качестве показателя незаполненности и отсутствия людей, признаков жизни и освоенности пространства.
В обозначении пустоты задействованы прилагательные хооhон ‘пустой’, хγнхи ‘полый, пустой, полость’ и хγнды ‘пустой, бездонный’, например, хооhон торхо ‘пустой бочонок’, хγнхи нγхэн ‘провал, пропасть’, хγнды ханха ‘ зияющий пустотой’ . При этом хγнхи чаще всего участвует для называния полости в таком предмете, который может издавать звук при ударе по нему: хγнхи мγльhэн ‘полость подо льдом’ и т. п. Для репрезентации других пространственных объектов, имеющих полости, используется хγнды, например: хγнды хирпиисэ ‘полый кирпич’, хγнды эшэтэй мангир ‘лук с полым стеблем’, хγнды сорго ‘полая труба’, хγнды уляаhан ‘полая осина’, хγнды сээжэ ‘грудная полость’, модоной хγнды ‘дупло дерева’, шэрээгэй хγнды ‘ящик стола’.
В бурятском языке пустота участвует в объективации лингвокультурных ценностей и предпочтений. В философских изысканиях долгое время вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в структуре реальных приоритетов, являются актуальными в связи процессами глобализации и нивелированием культурных традиций. Если ранняя аксиологическая мысль признает за ценностью смысл жизни, более поздние практики понимают под ценностью интересы, потребности и желания отдельной личности, то русская философия акцентировала внимание на духовности и свободе, аксиологическая составляющая которых имеет значение в жизни человека. Все исследователи сходятся в признании всеобщей обязательности и нормативном характере свойств ценности. У А. С. Ахиезера находим, что оценивание становится возможным в результате постижения и освоения внеязыковой действительности и сопровождается одновременным наделением ее отдельных фрагментов свойствами, качествами, человеческим смыслом [2, с. 319]. Для ценностного отношения характерны образно-метафорические формы освоения, в основе которых чувственные, медитативные, философские, мифологические способы осмысления. Вслед за А. Я. Гуревичем исходим из того, что «ценности, общие для всех народов, в каждом национальном мире понимаются по-разному, имеют свой акцент» [6, c. 172]. Следующим методологическим посылом является то, что пространство — одна из онтологических объективных категорий, которую человек научился воспринимать, осознавать и формировать на ее основе систему ценностей. Теоретический анализ аксиологии пустоты, выработанной членами языкового коллектива, позволяет обнаружить специфику осмысления изучаемой абстракции, что важно для установления одной из констант ценностной картины мира, так как ценности во многом детерминируют специфику восприятия человеком окружающего мира.
Анализ материалов лексикографических источников и массива Бурятского корпуса позволяет сделать вывод, что восприятие и оценка пустоты как пространственного фрагмента имеют свою специфику. В предметно-понятийном (денотативном) содержании пустого внешнего пространства, возможно, универсальным признаком выступает сема ‘безлюдный’, которая объединяет группы конкретных характеристик и оценок пространственных смыслов: хооһон талмай ‘пустая площадь’, хооһон тала ‘пустая степь’, хооһон гэр ‘пустой дом’, реализуется исходный обобщающий смысл.
В метафорически-оценочном осмыслении пустоты в бурятском языке, безусловно, можно признать то, что пустота используется как знак бессодержательности. Прототипическая зона пустоты определяется признаком отсутствия наполненности, пустым осознается описываемый объект, который отличается частичным наличием того, чем обычно заполняется, ограниченностью в необходимых составных частях, что полностью предопределяет появление и функционирование негативной оценки из-за недостатка того содержания, которое подвергается оценке. Так, пустота выступает символом узости взглядов, кругозора, мировоззрения, демонстрируя отрицательную коннотацию: Багша обёороошье һаа, зүрхэ сэдьхэлыень шүбгөөр хадхажа ьбайһандал, урдаһаань бэлтылдэһэн үлэн хооһон харасатай мойһон хара нюдэдһөө далтираад хэшээлээ саашань үргэлжэлүүлдэг һэн ‘у учителя щемило сердце при виде устремленных на него больших выразительных глаз, в которых была боль и отчаяние, но он находил в себе силы, чтобы продолжать урок’ (М. Осодоев. Заха холын заямхада).
Сложная семантика пустоты демонстрирует взаимосвязанность данной аксиологии с оценочными суждениями, актуализирующими:
-
- неосновательность, бесплодность действий и мыслей, например: дэмы та-лаар ‘попусту, зря’, хии hэбхи ном‘пустой, бессодержательный’, хии гарза ‘пустое место’;
-
- никчемность, бессмысленность, ничтожность: хооhон зугаа ‘пустаязабава’, хооhон бодолто ‘прожектер, фантазер’ ;
-
- пустословие: хооhон аман ‘пустословие’, хубхайхэлэн ‘пустыеречи’.
Идея пустоты эксплуатируется как для характеристики действий, так и собственно сущности человеческой натуры, актуализируя, например: бестолковость, духовную ограниченность: Хооhон толгойтой хγн директор болодог юм аал? ‘Разве директор может быть пустоголовым?’ (Д. Доржиев. Намарай набшын гу-ниг).
При оценке внутреннего мира человека пустота используется как знак отсутствия полноты человеческого существования и противопоставляется наполненности жизни через его духовный уровень. Развивая признак бессодержательности, пустота как ценностная ситуация распространяет негативную оценку на все явления, характеризующиеся своей безыдейностью и лишенностью серьезного значения, ограниченностью и бесполезностью, бесплодностью и ничтожеством.
В бурятском языке пустота используется как маркер состояния жизненного тупика, когда человек подвергает сомнению, правильно ли он живет. Чаще всего в этом случае он находится в раздражении или разочаровании, сталкиваясь с непредвиденным препятствием, невозможностью достичь своей цели, удовлетворить свои потребности. В таком состоянии человек апатичен, недоволен собой, равнодушен ко всему, что приносило удовольствие: примеры из текста повести Кима Цыденова являются хорошей иллюстрацией сказанного: Тархи сонь ямаршье бодолгүй, мүн лэ баһа жэгтэй хооһон мэтэ болошобо ‘в голове никаких мыслей, как будто пустой стала’ (К. Цыденов. Бусахал даа хабар).
В соответствии с семиотическими традициями описания языковой картины мира можно говорить о бинарной оппозиции в оценке пустоты, в которой отсутствие наполненности служит для отрицательной маркировки, в то время как другому члену оппозиции — полноте присваивается знак плюс.
Следует отметить, что в бурятском языке пустота как феномен лингвокуль-туры используется для обозначения как отрицательных, так и положительных характеристик. Так, на наличие социально-валидной положительной аксиологии указывает функционирование лексемы хии морин ‘конь удачи’. В бурятской культуре существует ритуал вывешивания хии морин , который является символом наполнения жизненных сил человека, считается, что способствует исполнению желаний, приносит благополучие. Конь удачи получает энергию из пустоты Вселенной. Восточная традиция, восходящая к буддийскому учению, наделяет пустоту сакральным положительным содержанием: под пустотой понимается начало существования, потенциальная энергия, источник первоэлементов мира и духа, вместилище ресурсов жизни. За пустотой закрепляются ассоциации с космосом, пространством творческой энергии, содержащей жизненные возможности, открывающей место для иллюзий и мечты.
При этом пустота используется для обозначения ценности со знаком минус, как было показано выше: семантический признак отсутствия чего-либо стал источником развития нескольких сем. К наиболее продуктивным в бурятской линг-вокультуре отнесем следующие:
-
1) ‘обнищание’:
Үгы, газар дээрэ гарабалгүй, уhан дээрэ удхагүй, үе үндэhэ мүшхэжэ, үгытэй хооhон ябаhан Сэдүүгэй тэрэ гойр годлидо хаанаhаа тархи толгойгоо эрь-юулэгдэжэ ошоо юм ‘Нет, откуда она нашла этого убогого голодранца, не имеющего ни родни на земле, ни следа на воде, нищего из поколения в поколение, из-за этого Сэдуя совсем потеряла голову’ (Х. Намсараев. Үүрэй толоон) .
-
2) ‘голодный’ в парных сочетаниях, ср.: Саада захань Харбин, Цицикар хүрөөб, hараhаа үлүү бологдоо, хамагаа Хитайдай шүүрнүүдтэ алдаад, хан гэжэ хашарhагүй, хооhон нойтон , хэдэн хоногой унтахаhаа бэшэ ажалгүй, туража үхэхэ хүрөөд ябатарни, ши hэрюүлжэ, эдеэлүүлжэ амидыруулбаш ‘дошел до самой окраины, до Харбина, Цицикара, больше месяца прошло, я все проиграл этим китайским шулерам, остался без гроша в карманах, ободранный, голодный до смерти, мог только сутками забываться тяжелым сном, тут ты меня разбудила, накормила, вернула к жизни’ (Б. Б. Намсараев).
Развитие подобных вторичных номинаций, обнаруживая скрытую категори-альность, восходит к теории топологического типа Леонарда Талми, в соответствии с которой некоторые пространственные объекты в процессе категоризации схематизируются как вместилище [13]. Е. В. Рахилина, объясняя и резюмируя теоретические положения Л. Талми, ввела понятие топологического типа, под которым понимается пространственный образ объекта, подчиненный особенностям его функционирования [8]. Архисема ‘ненаполненный’ в случае, когда речь идет об удовлетворении/неудовлетворении витальных потребностей, рождает идеи крайней бедности и недоедания, пустота становится маркером образа жизни.
Итак, проведенный анализ подчеркивает первичность и онтологическую сущность пространственных представлений, так в бурятской языковой картине мира пространственная категоризация — та база, на которой формируются и осознаются другие типы связей и аксиологические системы. Под пустотой в соответствии с буддийской традицией понимается место концентрации потенциальной энергии, дарующее удачу, везение, здоровье, успех, устанавливает гармонию жизненных сил человека. При этом пустота как фрагмент пространственной картины мира служит основой интерпретации и оценки, в результате которых выступает как знак бессодержательности, символ узости взглядов, кругозора, мировоззрения, демонстрируя отрицательную коннотацию, а также используется при указании на неосновательность и бесплодность действий и мыслей, обнищание, никчемность и ничтожность человеческой натуры, пустословие и духовную ограниченность, противопоставляется наполненности жизни и обозначает отсутствие полноты человеческого существования через его духовный уровень.
Список литературы Пустота в пространстве лингвокультурных ценностей (на материале бурятского языка)
- Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: опыт системного описания // Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. Москва: Языки русской культуры, 1995. 224 с. Текст: непосредственный.
- Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. (Социокультурная динамика России.) Т. II. Теория и методология: словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 594 с. Текст: непосредственный.
- Бобрышева И. А. Семантическое поле «пустота» в идиолекте М. И. Цветаевой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федер. ун-та, 2013. 28 с. Текст: непосредственный.
- Большаков В. П. Ценности культуры и время (некоторые проблемы современной теории культуры). Великий Новгород: Изд-во НовГУ, 2001. 112 с. Текст: непосредственный.
- Гаврилкина М. Ю. Концептуализация пустоты в прозе О. Славниковой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Улан-Удэ, 2013. 25 с. Текст: непосредственный.
- Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. Москва: Искусство, 1972. 322 с. Текст: непосредственный.
- Шубина П. В. Пустота как онтологическая и гносеологическая категория: способы говорить об отсутствии в западноевропейской философии: автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та, 2005. 21 с. Текст: непосредственный.
- Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. Москва, 2010. 447 с. Текст: непосредственный.
- Риккерт Г. О системе ценностей // Науки о природе и науки о культуре. Москва: Республика, 1998. 413 с. Текст: непосредственный.
- Рябцева Н. К. Аксиологические модели времени // Логический анализ языка: язык и время. Москва: Языки русской культуры, 1997. С. 78–95. Текст: непосредственный.
- Суродина Н. Р. Лингвокультурное поле концепта пустота (на материале поэтического языка московских концептуалистов): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. пед. ун-та, 1999. 20 с. Текст: непосредственный.
- Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ: исследования в области мифопоэтического. Москва: Прогресс, Культура, 1995. 624 с. Текст: непосредственный.
- Talmy L. The fundamental system of spatial schemas in language / B. Hamp (ed.) // From perception to meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics. Mouton de Gruyter, 2006. P. 37–47.