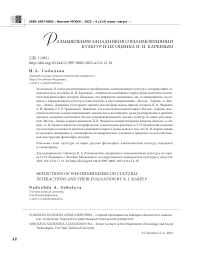Размышления западников о взаимовлиянии культур и их оценка Н. И. Кареевым
Автор: Соболева Н.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: История философии и философская антропология
Статья в выпуске: 4 (114), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблематика взаимовлияния культур в историософии западничества и ее оценка Н.И.Кареевым теоретиком всеобщей истории, представителем позитивистской философии истории. Показано, что рефлексия западников, как и славянофилов, по во просу о взаимовлиянии культур осуществлялась в двух направлениях: «Россия Европа» и «Восток Запад». Динамика культурного диалога рассмотрена сквозь призму взглядов П. Я.Чаадаева, А.И.Герцена и Т.Н.Грановского. Выявлено, что в интеллектуальной линии «Россия Европа» мыслители испытали схожие переживания: знакомство и восхищение, далее разочарование и критика, наконец, осознание достоинств России и привлекательности диалога культур. Влинии рассуждений «Восток Запад» вскрыта динамика: П.Я.Чаадаев не конкретизировал понятия «Восток» и «Запад», А.И.Герцен очертил их географические и ментальные различия, а Т.Н.Грановский соединил все культуры в контексте понятия всеобщей истории. Сделан вывод о том, что Н.И.Кареев извлек изнаследия западников и славянофилов поливариантные суждения и применил их для собственной конструкции философии истории.
Культура, история, русская философия, взаимовлияние культур, западники и славянофилы
Короткий адрес: https://sciup.org/144162858
IDR: 144162858 | УДК: 1 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-4114-12-18
Текст научной статьи Размышления западников о взаимовлиянии культур и их оценка Н. И. Кареевым
Дискуссии о взаимовлиянии культур, различных по форме и по смысловым традициям, не утихают в исследовательской среде вот уже два века. В последние десятилетия разговор специалистов по этой проблеме усилился. Он стал более плотным и многовекторным, во многом благодаря усиливающейся практике мировых миграционных потоков [4], [9]. По своей динамике современную миграцию можно смело сравнить с Великим переселением народов в IV–VII веках. Однако по содержанию, в отличие от тех далеких событий, миграция рубежа XX–XI веков представляет собой не просто смену локации или соседей, а глобальное «перекрестное изменение форм жизни субъекта миграции и жителя принимающей страны» [1, с. 77]. В этой связи диалог культур актуально воспринимать как средство потенциальной гармонизации жизни народов.
Воззрения славянофилов и западников 30–40-х годов XIX столетия с большой долей очевидности рассматриваются как почва, на которой возник разговор о взаимовлиянии культур. В гуманитаристике закрепился ряд суждений, важных в русле заявленной в статье темы. Все специалисты солидаризируются в том, что и славянофилы, и западники решали вопрос, что такое Россия и каковы ее перспективы. Однако каждый обращает внимание на разные аспекты дихотомии взглядов славянофилов и западников. Так, М. М. Шибаева акцентирует внимание на том факте, что западники в своих поисках путей развития России ориентировались, в первую очередь, на социальные ценности, а славянофилы – на нравственные. Автор утверждает, что для традиций народной культуры важна «самоценность духоподъемного созерцания природных явлений» [12, с. 123–124]. А. Е. Рыбас усматривает разграничительную дорожку, согласно которой славянофилы отыскивали идеальную Русь в прошлом, в допетровских временах, а западники, наоборот, идеализировали просвещенную Европу и видели будущее России в ее контексте [10, с. 137]. Е. В. Мареева на примере историософских взглядов П. Я. Чаадаева доказывает, что у славянофилов понимание индивидуального было ментально погружено в единую для всех народную почву, а у западников оно, чаще всего, гармонизировалось с общественным [8, с. 169]. М. А. Широкова усматривает парадокс в том, что славянофилы, считающие себя хранителями традиций, оказались творческими в поисках собственных умозрительных идеалов, тогда как западники, ратующие за прогресс и новации, пошли по проторенному западной культурой пути [13, с. 96].
Цель статьи – очертить вопрос о взаимовлиянии культур в историософии западников с точки зрения Николая Ивановича Кареева (1850–1931), теоретика всеобщей истории, представителя позитивистской философии истории, профессора Санкт-Петербургского университета. Важность этой оценки заключается в том, что Кареев обладал дискурсивной способностью извлекать из наследия прошлого или из текстов современников поливариантные суждения и применять их для собственной конструкции философии истории.
В полемике славянофилов и западников вопрос о взаимовлиянии культур обрел, как известно, два интеллектуальных направления: «Россия – Европа» и «Восток – Запад». Для текстовой наглядности выбраны воззрения П. Я. Чаадаева, А. И. Герцена и Т. Н. Грановского. Все они «питались» университетским духом и салонной культурой Москвы 30–40-х годов. Все они в разном качестве и в разное время были погружены в европейскую жизнь, поэтому могли размышлять о взаимовлиянии культур напрямую, а не только через книги или свидетельства.
Начиная с Карамзина, публично отразившего свои впечатления о Европе в «Письмах путешественника» [6], западники ценили ее интеллектуальную мысль и общественное устройство. Одних привлекали идеи просвещения и масонства, других интересовала наука, поэтому они посещали лекции знаменитых профессоров, третьих удивляла распущенность нравов европейцев. В любом случае, по наблюдениям В. В. Зеньковского, в споре со славянофилами западники возмужали до постановки вопроса об отношении к Европе уже по существу, а не только эмоционально (как, например, у Фонвизина: от светлых представлений – к недоумению и разочарованию) [5, с. 16–18]. Историко-культурный скептицизм, проявляющийся в рассуждениях представителей обоих течений историософской мысли, позволил преодолеть прежнюю наивную зачарованность формами западной культуры и поставить вопрос о самоценно- сти каждой культуры, взаимодействующей c другими.
Первым, кому удалось с пользой дела, если так можно выразиться, проявить и позитивно трансформировать свой скептицизм, считается П. Я. Чаадаев (1794–1856). Исследователи выделяют несколько волн его меняющегося мировоззрения. Первая: как и другие дворяне, Чаадаев испытал всю меру увлечения западной культурой. Вторая: после участия в войне 1812 года его, как и других победителей Наполеона, накрыла гордость за политическую мощь России. Третья: на фоне привлекательности образа жизни европейцев [путешествовал с 1823 по 1826 год – Н. С. ] Чаадаев стал испытывать, как выразился Зеньковский, «злую иронию» по поводу самодержавия и крепостного права в России. Четвертая: после сложных исканий пути России с точки зрения ее настоящего и прошедшего к Чаадаеву пришла надежда на то, что в будущем именно ей предстоит сыграть важнейшую роль как в мировой истории, так и в деле спасения всего человечества. Так, в письме А. И. Тургеневу в 1835 году он пишет, что спокойная и беспристрастная Россия, поставленная Провидением вне стремительного исторического движения, «получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» [11, с. 368].
Углубляясь в истоки культурного взаимодействия, Чаадаев отводит Востоку роль первой цивилизации, а Западу – второй. «Мир искони делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие жизненный строй человеческого рода», – пишет Чаадаев [11, с. 148]. Столь длинная цитата показывает, что для Чаадаева каждая культура имеет две формы развития: природную и идейную. И та и другая начинаются исторически по-разному. «Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания…» [11, с. 148].
Со временем Запад овладел культурными традициями Востока и деятельностно, т. е. через слово и разум, преобразовал их.
Говоря о Востоке и Западе, Чаадаев не прописывает эти понятия. Обратную картину видим в сочинениях Александра Ивановича Герцена (1812–1870). Запад для него – это страны Европы (Германия, Австрия, Франция, Италия, Англия, Испания), а также Соединённые Штаты Америки. Восточный тип государства, по Герцену, олицетворяют Россия и весь славянский мир.
У эмигрировавшего Герцена взгляд на диалог культур приобрел две оптики зрения: «изнутри», из России, и «снаружи», из Европы. Сначала, как и когда-то Карамзин, он испытал схожие восторженные впечатления от Европы. Приведем две созвучных по тональности цитаты о встрече с Парижем. Первая принадлежит Карамзину: «Вот он, город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, … которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем…» [6, с. 238]. Вторая взята из воспоминаний Герцена: «В Париж – едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове “Москва”. Об этой минуте я мечтал с детства» [2, Т. 1, с. 540]. Со временем, рефлексируя в пластах повседневной жизни европейцев, Герцен снял розовые очки, увидев в ней и очевидные недостатки, и парадоксы.
С грустью называя себя «посторонним человеком», Герцен пишет: «А ведь я не посторонним пришел в Европу. Посторонним я сделался» [2, Т. 2, с. 42]. Рефлексирующему Герцену, имеющему опыт жизни и в России, и в Европе, удалось конкретизировать облик европейца. В 1842 году в московском кругу он рассуждал о западном человеке как об одностороннем в силу своей специализации и противопоставлял ему многосторонность русского образованного человека: «Мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой – гораздо проще западных людей: не имеем их специальности, но зато многостороннее их» [2, Т. 1, с. 411]. Позже, уже плотно погруженный в повседневную среду европейцев, Герцен находит в каждом национальном характере свою особенность.
На страницах «Былое и думы» можно встретить ментальные «портреты» французов, англичан, немцев, итальянцев и, конечно, россиян. Сравнивая французов и англичан, Герцен говорит, что француз любит жить напоказ, хочет иметь слушателей, быстро отвечает на вопросы и любит всех поучать; дерзкий по натуре, он при этом хорошо организован в силу того, что в стране доминирует регламентированное обучение и общественное воспитание. Англичанин замкнут, смотрит на других как на партнера, от которого можно получить сведения, больше спрашивает и обдумывает, нежели отвечает и поучает, любит жить особняком, его главное кредо – личная независимость и родовые традиции [2, Т. 1, с. 555; Т. 2, с. 28]. Итальянец – художник по натуре, долго живущий в разрозненной стране, поэтому он ценит индивидуальность и бежит от всего казенного [2, Т. 1, с. 582]. Немец склонен к умственной работе и теоретически учен, но в столичных салонах и аристократических кругах он чувствует себя провинциалом [2, Т. 1, с. 592; Т. 2, с. 120].
По ощущениям Герцена, у образованного русского человека много общего с итальянцем: и тот, и другой рефлексирует самостоятельно, через книги и жизненный опыт общения. «Он и мы во многом уступаем специальной оконченности французов и теоретической учености немцев, но зато у нас и у итальянцев ярче цвета», – рассуждает Герцен [2, Т. 1, с. 582]. Более того, и негативные черты русского и итальянца видятся Герцену схожими: склонность к неге и праздности и восприятие работы как тягостного труда.
Историк-медиевист, профессор Московского университета Т. Н. Грановский (1813–1855) объединяет культуры Востока и Запада в единое целое. Как и Чаадаев, он поддерживает мысль о том, что Восток пришел первым на арену человеческой истории, но в силу обстоятельств уступил Западу исторический приоритет развития. Поэтому всеобщая история, по Грановскому, – это детище западной цивилизации, а Восток – ее древняя отчизна [3, с. 432]. Историк говорит, что над изучением истории сегодня трудятся этнологи, антропологи, географы, экономисты и другие теоретики. Все они улавливают новую векторную тенденцию мирового развития: движение Запада на Восток. Главными причинами называются перенаселение и оскудение ресурсов на территории Европы [3, с. 443]. Это наводит Грановского на мысль о том, что в перспективе может идти речь уже о всемирной истории, когда взаимодействие Запада и Востока приобретет гармонизирующую силу уже на новой основе, не столько военной, сколько экономической.
На первый взгляд Грановский выглядит как сторонник европоцентрической модели развития человечества. Солидаризируясь с русским ученым-натуралистом К. Бером, он пишет, что «северный» Запад, двигаясь на «южный» Восток принесет за собой «трудолюбие, науки, искусства, промышленность и сознание необходимости благоустроенной государственной жизни» [3, с. 444]. Однако не все так однозначно. Апеллируя в качестве примеров к странам Южной Америки, или островам Тихого и Индийского океана, Грановский как ученый подчеркивает ценность их природной самодостаточности. В предполагаемом диалоге северных (западных) и южных (восточных) культур Европа выступит как «школа труда», а Восток – как умение наслаждаться жизнью.
Как Чаадаев и Герцен, Грановский видит в истории России некую особенность, которая неизменно позволит ей занять подобающее место во всеобщей истории. «Особенные условия, в которые Провидению угодно было поставить нашу родину, должны оказать могущественное содействие к осуществлению высказанной нами надежды» [3, с. 452]. Грановский искренне надеется, что умственный строй русского человека, не тронутый перипетиями исторического развития, способен «приступить без задних мыслей к разбору преданий, с которыми более или менее связано личное дело каждого европейца» [3, с. 453].
Особенно это суждение касается ученых. Обучаясь в Берлине и путешествуя по Европе, он приобрел немало соратников в научном сообществе. Дружба и сотрудничество с такими учеными, как немецкий философ К. Вердер, проповедник еврейской общины в Праге М. Сакс, словацкий и чешский славист П. Шафарик, итальянский географ А. Бальби и другими исследователями, позволила Грановскому не «одеваться в одежды чужого образования», а в ходе диалога «на равных» развивать науку [3, с. 598].
В качестве обобщения можно сформулировать несколько суждений в отношении того, как западники обсуждали вопрос культурного взаимовлияния. Общим для всех было изменение вектора восприятия европейской культуры сквозь призму России: знакомство, восхищение/заимствование, разочарование, понимание важности диалога культур, а не их отчуждения. В отличие от славянофилов, у которых после схожего разочарования утвердилась идея отчуждения русской культуры от западной и ожидание окончательной гибели Европы, к западникам пришло осознание значимости России и стремление жить сообща, взаимовлиять друг на друга. Вслед за Чаадаевым, в разных вариациях, все они считали, что недостатки России оборачиваются ее преимуществами и верили в будущее своей страны.
Взгляд западников на диалог России и Европы можно рассматривать как взгляд «изнутри» (жизнь в России) и «извне» (путешествия, эмиграция, учеба). Где бы ни находились мыслители, они думали в первую очередь о своем отечестве, поэтому вопрос о культурном взаимовлиянии рассматривался ими в контексте России. Об этом свидетельствует смена их переживаний: восхищение Европой – кратковременная гордость за Россию после 1812 года и последующее за этим разочарование ею – надежда на Россию. Такая триада олицетворяет рост самосознания образованного слоя русского общества и напряженное ощущение ответственности за судьбу своей страны.
Н. И. Кареева, как и П. Я. Чаадаева, А. И. Герцена, Т. Н. Грановского, объединяет общая alma mater. Студент Московского университета, Кареев впитал дух привлекательности доказательного знания и приобрел навыки поливариантного мышления. В силу обстоятельств Кареев оказался достаточно плотно включенным в европейскую жизнь. Первая заграничная служебная поездка (1877–1878), профессорство в Варшавском университете (1879–1885), регулярные заграничные поездки для работы в библиотеках и музеях Европы (1889–1914) – таков общий перечень его погружения в западную культуру. Встречи за границей были для Кареева важным способом познать другие культуры и вместе искать возможность их примирительного диалога. Он соглашался с западниками и славянофилами, что Россия – уникальная страна. Но, в отличие от них, считал, что не только религиозные или политические, а изначально природногеографические условия направляли русскую историю и формировали ее культурные фор- мы. Кроме того, в воззрениях Кареева, личность является субъектом истории и существенным мерилом ее культуры. По Карееву, Россия – это исторический посредник между Западом и Востоком со значительным потенциалом прогрессивного развития [7, с. 278–299].
В текстах Кареева видны «следы» того, как умело он использовал поливариантные суждения западников и славянофилов и применял их для собственного конструирования философии истории. В частности, если говорить о сторонниках западничества, то вслед за Чаадаевым Кареев обратился к предыстории культурного взаимодействия Востока и Запада. У Герцена русский позитивист воспринял идею формирования национального характера и высветил ее в многофакторном ключе. Солидаризируясь с Грановским в понимании всеобщей истории, Кареев разработал собственный вариант всемирно-исторического процесса, представленный в гуманистическом измерении как диалогическое взаимовлияние культур Запада и Востока.
Список литературы Размышления западников о взаимовлиянии культур и их оценка Н. И. Кареевым
- Верпатова О. Ю. Миграция в глобализирующемся пространстве и социальное прогнозирование // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2019. № 2 (48). С. 77-86.
- Герцен А. И. Былое и думы. В 2-х томах / сост., предисл. и коммент. И. Г. Птушкиной. Москва: СЛОВО/ 8ЬОУО, 2001. Т. 1. 912 с.; Т. 2. 552 с.
- Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма / сост. А. А. Левандовский, Д. А. Цыганков. Москва: Российская политическая энциклопедия. 2010. 672 с.
- Жукоцкая А. В. «Диалог культур» и «культура диалога» - о взаимных гарантиях и дефицитах // Диалог культур. Культура диалога: цифровые коммуникации: Материалы III Международной научно-практической конференции. Москва. 2022. С. 124-130.
- Зеньковский В. В. История русской философии. Москва: Академический Проект, Раритет. 2001. 880 с.
- Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / вступ. ст. Г. П. Макогоненко; прим. М. В. Иванова. Москва: Правда. 1988. 544 с.
- Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории: Очерки главнейших исторических эпох / Н. И. Кареев. Изд. 2-е. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 304 с.
- Мареева Е. В. П. Чаадаев: социальный критик, философ, резонер? // Человек. 2017. № 1. С. 163-173.
- Михайлова Е. Е. Диалогичность философии истории русского позитивизма и современность // Со-ловьевские исследования. 2017. № 2 (54). С. 151-159.
- Рыбас А. Е. Истоки надежды в русской мысли // Вече. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское обществ. 2022. № 34. С. 127-144.
- Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / сост. В. Ю. Проскурина. Москва: Правда, 1991. 560 с.
- Шибаева М. М. Духовные искания славянофилов: эстетический аспект // Вече. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество. 2022. № 34. С. 116-126.
- Широкова М. А. Философия славянофилов как начало «религиозно-философского ренессанса» в России первой половины XIX века // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 448. С. 96-100.