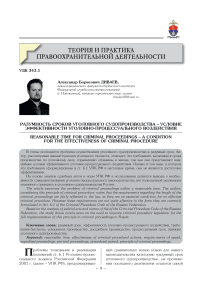Разумность сроков уголовного судопроизводства -условие эффективности уголовно-процессуального воздействия
Автор: Диваев А.В.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (45), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется проблема осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок. Автор, рассматривая данный принцип уголовного процесса, отмечает, что требования, касающиеся срока производства по уголовному делу, справедливо отражены в законе, так как они представляют важнейшее условие эффективного уголовно-процессуального воздействия. Однако в том виде, в котором эти требования сформулированы в ст. 6.1 УПК РФ в настоящее время, они не являются достаточно эффективными.На основе анализа судебных актов и норм УПК РФ в исследовании делаются выводы о необходимости совершенствования уголовно-процессуального законодательства для полноценной реализации указанного принципа в уголовном судопроизводстве России.
Разумный срок, эффективность уголовно-процессуального воздействия, требования быстроты, ускоренное производство, досудебное производство, процессуальный срок, принцип уголовного судопроизводства
Короткий адрес: https://sciup.org/140261795
IDR: 140261795 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Разумность сроков уголовного судопроизводства -условие эффективности уголовно-процессуального воздействия
П роблемы толкования и реализации положений ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 2001 г. (далее – УПК РФ), предусматриваю- ~ 9
щей сравнительно новую новой для нашего законодательства категорию «разумный срок уголовного судопроизводства», на протяжении последнего десятилетия остаются одной

Вестник Сибирского юридического института МВД России
из самых востребованных проблем уголовно-процессуальной науки. Залогом того, в первую очередь, может считаться то количество научных исследований, которое было опубликовано с момента появления этой нормы закона в качестве одного из принципов уголовного судопроизводства [1-7; 10].
Не менее «популярна» эта категория и в практической среде. При этом, в первую очередь, здесь речь должна идти о высших судебных органах нашей страны: с тех пор как принцип разумного срока уголовного судопроизводства нашел закрепление в законе, на их уровне не прекращается достаточно интенсивная работа, направленная на поиск наиболее оптимальных вариантов разрешения проблем, возникающих в связи с его применением. Так, в частности, Конституционный Суд РФ в ряде своих постановле-ний1 обратил внимание законодателя на противоречивый характер некоторых норм действующего уголовно-процессуального закона, который, с одной стороны, определенно включает стадию возбуждения уголовного дела в систему уголовного судопроизводства в качестве одной из его досудебных стадий (п.п. 9 и 56 ст. 5 УПК РФ), а с другой – в первоначальной редакции ст. 6.1 УПК РФ не предусматривал возможности учета периода со дня подачи заявления и до момента возбуждения уголовного дела о данном преступлении при определении разумности срока производства по уголовному делу, что было признано не соответствующим Конституции РФ и повлекло изменение закона в части его включения в срок уголовного судопроизводства.
Ведет работу по совершенствованию системы гарантий прав граждан на рассмотрение судебных (и в том числе уголовных) дел в разумный срок и Верховный Суд РФ. Достаточно сказать, что «профильное» постановление Пленума Верховного Суда от 29 марта 2016 г. N 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» совсем недавно, а именно в июне 2021 г., подверглось модернизации, дав ряд разъяснений по вновь возникшим вопросам судебной практики.
В чем же причина столь высокой «популярности» вопросов, связанных с определением разумности сроков уголовного судопроизводства? Обычно в этой связи принято говорить о двух причинах: новизне и заимствованном характере этой категории. Рассмотрим каждый из указанных тезисов.
Начнем с первого: категория «разумный срок уголовного судопроизводства» – это новая категория для нашего законодательства, что требует повышенного внимания к содержанию ст. 6.1. УПК РФ и практике применения этой нормы. И, в принципе, на первый взгляд этот тезис не может вызывать каких-либо возражений, т.к. указанная норма уголовно-процессуального закона была введена в действие Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. N 273-ФЗ, т.е. чуть более 10 лет назад, что, несомненно, говорит о новизне категории «разумный срок» применительно к нашему уголовно-процессуальному законодательству. Хотя, если пристальнее всмотреться в содержание ранее действовавших кодифицированных уголовно-процессуальных актов, придется констатировать, что эта новизна весьма условна, т.к. в них обнаруживается ряд норм, схожих по смыслу со ст. 6.1 УПК РФ.
В частности, еще в ст. 295 Устава уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г. провозглашалось: «Предварительные следствия должны быть производимы со всевозможной скоростью. Производство их не останавливается и в табельные или воскресные дни, если обстоятельства дела того потребуют». Данное положение, конечно,

Теория и практика правоохранительной деятельности ^^
нельзя полностью назвать тождественным современному требованию разумности срока уголовного судопроизводства хотя бы в силу того, что касалось оно только одной части уголовного судопроизводства – предварительного следствия, которое, хотя и составляло часть судебной деятельности по уголовному делу, но все же носило предварительный характер. Кроме того, вполне очевидно, что применительно к срокам производства процессуальной деятельности требование быстроты носит явно односторонний характер, так как не все произведенное в уголовном процессе быстро одновременно носит разумный характер. Разумность в данном контексте – это не просто быстрота, но и качество производства, между которыми должен существовать баланс, и производство по делу, осуществленное с «неразумной» быстротой, вряд ли может считаться произведенным в разумные сроки. Однако, несмотря на это, думается, что опровергнуть смысловую связь между этой нормой уголовно-процессуального закона XIX в. и положениями современной ст. 6.1. УПК РФ достаточно сложно.
Значительный прогресс в обеспечении гарантий не только быстрого, но и одновременно качественного расследования уголовного дела был достигнут вместе с принятием УПК РСФСР 1922 г. Если в положениях имперского Устава во главу угла ставилась исключительно скорость производства (количественный критерий), то уже в первом советском кодифицированном уголовно-процессуальном законе помимо нее, применительно к сроку предварительного следствия, предъявлялось требование обеспечения полноты расследования уголовных дел (качественный критерий). На такой вывод наталкивает содержание ст. 127 УПК РФ, согласно которой по постановлению Губернского совета народных судей производство следствия могло быть передано из одного следственного участка в другой, в том числе и при условии, что такой передачей может быть достигнуто более «скорое и при том более полное расследование дела». Похожая норма впоследствии появилась и в содержании УПК РСФСР 1923 г. (ст. 124).
Ну и «венцом» развития системы гарантий советского уголовно-процессуального законодательства от следственной волокиты стали положения ч. 1 ст. 2 УПК РСФСР 1960 г., которая в качестве задач всего уголовного судопроизводства установила «быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден». По сути, и здесь нужно согласиться с М.С. Строговичем, требования, предъявляемые к срокам осуществления процессуальной деятельности, впервые из нормы специального действия превратились в принципиальные уголовно-процессуальные положения, стали, в трактовке автора, элементом принципа материальной (объективной) истины [9, с. 133].
Таким образом, хотя категория «разумный срок уголовного судопроизводства» и может рассматриваться как новое уголовно-процессуальное понятие, говорить о его новизне можно с определенной степенью условности: все-таки правовые требования, предъявляемые к срокам производства по уголовному делу, – это достаточно традиционное для нашего уголовно-процессуального законодательства явление.
Теперь остановимся на втором тезисе, связанном с истоками происхождения категории «разумный срок», которые покоятся не в нашем внутригосударственном, а в международном праве.
В общем-то признано, что введение в уголовно-процессуальное законодательство России этого не совсем привычного для нашей правовой традиции понятия во многом обусловлено исполнением международных обязательств, принятых на себя нашим государством в ходе взаимодействия с европейскими межгосударственными структурами. Об этом, например, прямо пишет О.С. Шепелева, которая именно этим объясняет принятие Федерального закона от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в раз-
Вестник Сибирского юридического института МВД России
умный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», одновременно с которым в разделе II УПК РФ появились и ст. 6.1 УПК РФ «Разумный срок уголовного судопроизводства», и сама категория «разумный срок» [8, с. 135].
Однако такая постановка проблемы неминуемо требует ответа на вопрос о том, а имело ли внедрение категории «разумный срок уголовного судопроизводства» в наше внутригосударственное законодательство под собой что-то еще, кроме исполнения неких международных обязательств, какую бы то ни было объективную основу.
Известно, что введение в правовой обиход новой терминологии, тем более если речь идет о ее легальном воплощении, требует чрезвычайной осторожности и тщательной подготовки. По крайней мере, законодатель должен четко понимать, для чего тот или иной термин вводится в закон, уяснить его значение для себя, адекватно передать смысл данного термина в положениях соответствующей нормы закона и истолковать его для правоприменителя, донеся истинный смысл новой терминологии. В противном случае ничего кроме головной боли новеллы закона правоприменителю предложить не смогут.
Указанные требования вдвойне актуальны, если вести речь о заимствованной правовой терминологии. Здесь, помимо всего прочего, законодателю требуется решить вопрос с сопряжением заимствований и традиционных правовых положений, а также учесть национальные правовые реалии, дабы заимствованная новелла не выглядела на фоне остальных норм «белой вороной» и была востребована практикой.
Кроме того, если заимствованный термин приходит на смену традиционным национальным правовым категориям, не мешало бы предварительно оценить потенциал использования традиционных понятий: может быть он еще не исчерпан, и при определенной модернизации привычная терминология вполне станет отвечать современным реалиям и еще будет способна «послужить».
Попытаемся с этих позиций рассмотреть объективную обусловленность использова- ния категории «разумный срок уголовного судопроизводства» нашим законодательством.
Итак, во-первых, категория «разумный срок уголовного судопроизводства», безусловно, относится к числу заимствованных нашим законодательством. Никогда вплоть до 2010 г. эта категория не использовалась нашим законодателем и ни разу не фигурировала ни в одном советском или российском нормативно-правовом акте. Впервые этот термин прозвучал в положениях ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 г. в контексте справедливого судебного разбирательства как одно из его условий: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». Обратим на это внимание: в отличие от нашего законодательства, где «разумный срок уголовного судопроизводства» – это принцип уголовного судопроизводства, в международно-правовом смысле «разумность срока» производства по делу и исполнения судебного решения используется исключительно в контексте судебного разбирательства, служа одним из критериев его справедливости.
Казалось бы – отличие не существенно. Однако это только на первый взгляд. Здесь важны правовые нюансы. Если следовать смыслу ст. 6 Конвенции, требование разумности срока судебного разбирательства – это одна лишь одна из гарантий права на справедливое судебное заседание, защищающее его участников от судебной волокиты, но не самоцель, не средство ускорения производства. И в этом смысле «разумность» здесь – это скорее качественный, нежели количественный критерий срока судебного разбирательства: справедливо только такое судебное заседание, которое произведено в разумный, т.е. как можно более скорый, с учетом обстоятельств дела, срок, а поэтому не нарушает права на справедливое судебное разбирательство, такое, которое, хотя и произведено в течение более длительного перио- да времени, но при том его срок объективно обусловлен конкретными обстоятельствами. И наоборот, не может быть признано справедливым судебное разбирательство, результатом которого стало поспешное решение, когда быстроте рассмотрения дела принесено в жертву его качество. С этой точки зрения, применительно к критерию разумности, более подходящей характеристикой является не «быстрота», а «незамедлительность» производства по уголовному делу.
Несколько иначе обстоит дело с разумностью срока судебного разбирательства, закрепленной в ст. 6.1 УПК РФ. Начнем с того, что это принцип уголовного судопроизводства, т.е. некое основополагающее начало, отражающее сущность уголовного судопроизводства нашей страны, связывающее систему уголовно-процессуальных отношений в единое целое, требованиям которого должно быть подчинено содержание специальных норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих конкретные правоотношения. И, в общем-то, на первый взгляд может показаться, что закрепление этого положения на таком уровне – это, несомненно, положительная черта нашего закона. Однако позволим себе усомниться в этом. Дело в том, что, возведя фактически рядовое положение закона, содержащее лишь ряд критериев, на основании которых субъект, отвечающий за соблюдение и продление сроков производства по делу, оценивает законность этого срока, законодатель явно сместил акценты, превратив разумность срока производства по уголовному делу из средства в самоцель. Знакомясь с содержанием этой статьи закона, невольно задаешься вопросом: а чего хотел добиться законодатель: гарантировать каждому справедливую и своевременную защиту его прав и законных интересов или как можно более ускорить производство по делу? И, к сожалению, приходится констатировать, что второй ответ более точно отражает смысл этой нормы.
Такой вывод усугубляет ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ, которая предусматривает, что « обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры

Теория и практика правоохранительной деятельности
и суда (курсив наш. - А.Д.) ... не могут приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства». И, в общем-то, мысль понятна: проблемы государства нельзя перекладывать на плечи граждан. Однако вызывает недоумение то пренебрежение, с которым законодатель относится к реалиям деятельности сотрудников правоохранительных органов. Нужно ли ему быть столь категоричным? Все ли обстоятельства, связанные с организацией работы судов и правоохранительных органов и препятствующие максимально быстрому окончанию производства по делу, зависят от их сотрудников? Думаю, что риторический характер вопроса очевиден, а поэтому более рациональным было бы в ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ вести речь исключительно о недостатках в организации работы (неравномерное распределение дел между следователями, дознавателями или судьями, неукомплектованность штатов при наличии вакансий, нерациональное распределение обязанностей между заместителями и помощниками и др.), т.е. о том, что находится в зависимости от воли и в поле возможностей конкретных руководителей и сотрудников правоохранительных органов и судов, а не вообще о любом обстоятельстве, связанном с организацией их работы.
Второе. Анализ Конвенции о защите прав человека и основных свобод вполне очевидно демонстрирует, что наш законодатель не стал слепо копировать ее положения относительно разумности срока судебного разбирательства и «творчески» развил европейскую юридическую мысль, тем более что ничего более, как упоминания об этом критерии справедливого судебного разбирательства, в Конвенции не содержится. Создатели Конвенции, вводя критерий разумности срока производства, постарались оставить максимально широкие возможности для маневра законодателю конкретного государства, принявшего европейские стандарты справедливого правосудия, с тем, чтобы тот смог наполнить эту категорию конкретным содержанием, с учетом специфики его исторического развития и правовых традиций. Учитывая различие государств
Вестник Сибирского юридического института МВД России
Европы с точки зрения уголовно-процессуальной формы их производств по уголовным делам – такой подход вполне оправдан. Однако оценивая то, каким содержанием наш законодатель наполнил ст. 6.1 УПК РФ, мы вынуждены констатировать, что эта норма далека от совершенства.
Начнем с того, что, как это часто случается, мы значительно расширили границы действия критерия разумности срока, распространив его на все судопроизводство, чего Конвенция, в принципе, от нас не требует – в ее положениях говорится исключительно о разумности срока разбирательства дела судом. В общем-то, исходя из типологии нашего уголовного процесса, подразумевающей чрезвычайно насыщенное досудебное производство, это видится обоснованным, но анализ конкретных норм ст. 6.1 УПК РФ позволяет усомниться в их эффективности.
Поясним выдвинутый тезис. Первое, что вызывает сомнение при ознакомлении с указанными нормами, – это их адресат. Предположим, исходя из смысла нормы-принципа, что таковыми должны быть, с одной стороны, конкретный участник уголовного судопроизводства, ведущий производство по уголовному делу, обязанный осуществлять его в разумный срок, а с другой – субъект, уполномоченный контролировать разумность срока и, в случае возникновения такой необходимости, воздействовать на поведение первого участника, «вернуть» срок в границы разумности. Относительно первого участника – лица, ведущего производство по уголовному делу, – никаких вопросов нет. Он прямо или косвенно «присутствует» во всех нормах ст. 6.1 УПК РФ: именно к нему обращено базовое положение этого принципа, гласящее, что «уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок»; на него же (в данном случае следователя или дознавателя) направлены и критерии определения разумного срока досудебного производства, руководствоваться которыми он должен на том или ином его этапе. И с этой точки зрения нормы ст. 6.1 УПК РФ выглядят вполне состоятельными.
Вопросы возникают относительно второго участника отношений, связанных с реали- зацией процессуального срока, – субъекта, уполномоченного осуществлять контрольно-надзорные полномочия за соблюдением разумности срока уголовного судопроизводства: смеем утверждать, что положения ст. 6.1 УПК РФ совершенно никак не связаны с его деятельностью. На такой вывод наталкивает хотя бы тот факт, что ни в одной норме, специально посвященной порядку исчисления и продления сроков досудебного (ст. 144,162, 223 УПК РФ) или судебного (ст. 255 УПК РФ) производства, о критериях разумности срока нет ни слова. Закон попросту не оговаривает обязанности этих должностных лиц при решении вопросов о сроках руководствоваться ими.
Более того, используя ту конструкцию ст. 6.1 УПК РФ, которая в настоящее время имеет место быть в законе, этими критериями, даже если бы такая обязанность возлагалась на руководителя следственного органа и прокурора, воспользоваться было бы очень сложно. Проблема в том, что она каждого следующего руководителя, принимающего решение о сроках производства по делу, делает «заложником» решений, принятых предыдущими руководителями. Представим себе, что явно был затянут, «заволокичен» вопрос о возбуждении уголовного дела, т.е. принцип разумности срока производства по делу был нарушен изначально, еще до появления официального производства. Соответственно, какими бы критериями ни пользовались, продлевая сроки производства по уголовному делу, вышестоящие руководители в последующем, их решения на разумность производства по уголовному делу в целом никакого влияния оказать не могут. Так, например, и произошло в указанном выше деле Б.А. Сотникова, ставшем предметом разбирательства в Конституционном Суде РФ, когда из почти девяти лет производства семь с половиной оно находилось в стадии возбуждения уголовного дела.
Единственным субъектом, способным реально воздействовать на сроки уголовного судопроизводства, руководствуясь критериями их разумности, как говорится, не постфактум, а в «режиме реального времени», если следовать смыслу ст. 6.1 УПК РФ, является председатель суда, который вправе удовлетворить заявление заинтересованных лиц об ускорении рассмотрения дел, если при поступлении уголовного дела в суд, оно длительное время не рассматривается (ч. 5 ст. 6.1 УПК РФ). И то этим инструментом он может воспользоваться исключительно до начала судебного разбирательства, тогда как после этого ничье вмешательство в сроки рассмотрения дела невозможно.
Так на кого же направлены критерии разумности срока уголовного судопроизводства, кроме самого лица, ведущего производство по уголовному делу? Ответ может показаться парадоксальным, однако именно он нам представляется верным: адресатом этих норм является суд, рассматривающий заявление заинтересованного лица в соответствии с Федеральным законом «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», т.е. вообще не участник уголовного судопроизводства и не субъект уголовно-процессуальных отношений. Именно он может по итогам рассмотрения заявления констатировать, что уголовное судопроизводство осуществлено в неразумный срок и решить в связи с этим вопрос о компенсации утрат, возникших у заинтересованного лица. На такой вывод наталкивает и содержание указанного Федерального закона: в нем в принципе отсутствуют хоть какие-то критерии разумности срока производства, которыми должен руководствоваться суд, принимая соответствующее решение по заявлению. Видимо, в этом вопросе он должен руководствоваться положениями ст. 6.1 УПК РФ.
Итак, критерии разумности срока уголовного судопроизводства, установленные уголовно-процессуальным законом, обязательны для суда, рассматривающего заявление о компенсации за нарушение права на разумный срок уголовного судопроизводства и, наоборот, не обязательны для субъекта, осуществляющего контрольно-надзорные полномочия в уголовном судопроизводстве. По сути, это означает, что нормы ст. 6.1 УПК
Теория и практика правоохранительной деятельности
РФ в части регулирования критериев разумности срока уголовного судопроизводства не являются нормами уголовно-процессуального права и, по крайней мере в том виде, в котором они сейчас присутствуют в УПК РФ, должны быть исключены из него и закреплены в положениях Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
Так что же, может, разумность срока уголовного судопроизводства вообще исключить из числа принципов уголовного судопроизводства? И да, и нет. В своем отношении к этому принципу мы придерживаемся того основополагающего положения, что требования, касающиеся срока производства по уголовному делу, обязаны быть в законе, т.к. они – важнейшее условие эффективного уголовно-процессуального воздействия. Однако в том виде, в котором эти требования сформулированы в УПК РФ в настоящее время, они не являются достаточно эффективными. Для преодоления сложившейся ситуации нам видится возможным предпринять ряд законодательных мер, которые могли бы быть сформулированы следующим образом.
-
1. Законодателю в первую очередь следует сместить акцент при формулировании содержания данного принципа. В настоящее время он сформулирован в виде некоей односторонней обязанности лиц и органов, ведущих производство по уголовному делу. Между тем обязанность предполагает наличие, во-первых, чьего-либо коррелирующего с ней права, а во-вторых, ответственности за каждый случай неисполнения обязанности. Ничего подобного в ст. 6.1 УПК РФ не усматривается. А стало быть, логически более верной была бы формулировка принципа, гарантирующего право каждого на производство по уголовному делу в разумные сроки , что позволило бы избавиться от фиктивного характера нынешней нормы и дало возможность реагировать на каждый случай нарушения права на производство в разумные сроки на основании заявления заинтересованного лица.
-
2. Дабы синхронизировать уголовно-процессуальное законодательство в части обеспечения права на производство в разумные сроки и указанный Федеральный закон, законодателю, как уже было указано выше, следовало бы критерии разумности срока уголовного судопроизводства, отраженные в настоящее время в чч. 3, 3.1, 3.2, 3.3 ст. 6.1 УПК РФ, закрепить в отдельных положениях Федерального закона, исключив их из ст. 6.1 УПК РФ. При этом в ст. 162 и ст. 223 УПК РФ необходимо прямое указание, что при решении вопроса о продлении срока предварительного расследования руководитель следственного органа или прокурор соответственно должны исходить из требования разумности срока досудебного производства, предусмотрев те же критерии разумности. Это, с одной стороны, обяжет их в каждом
-
3. И последнее: законодателю необходимо, наконец, что-то предпринять по отношению к процессуальной «черной дыре» – срокам проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Как представляется, настало время вести себя по отношению к ним самым решительным образом и жестко ограничить этот срок тем же месяцем с момента получения заявления или сообщения о преступлении. Думается, что этого срока вполне достаточно, чтобы решить все задачи, стоящие перед данной стадией. Если же по истечении месяца у лица, уполномоченного возбудить уголовное дело, остались сомнения в том, имеются ли в деянии признаки преступления, уголовное дело должно быть возбуждено с тем, чтобы продолжить исследование обстоятельств случившегося полным арсеналом уголовно-процессуальных средств и, самое главное, в контролируемые и прозрачные сроки.
Вестник Сибирского юридического института МВД России
Такое смещение акцентов в принципе, гарантирующем разумные сроки производства по делу, кстати, в полной мере соответствует и смыслу Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (курсив мой. - А.Д.) или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
случае решения вопроса о продлении срока предварительного расследования исходить из единообразных критериев, а с другой – позволит суду в последующем при обращении к нему с заявлением о компенсации оценить, насколько они были учтены руководителем следственного органа или прокурором.
Список литературы Разумность сроков уголовного судопроизводства -условие эффективности уголовно-процессуального воздействия
- Владимирова, Ю.К. Обеспечение уголовно-процессуальных прав участников уголовного судопроизводства, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук / Ю.К. Владимирова. - Воронеж, 2018. - 227 с.
- Волынец, К.В. Гарантии реализации принципа "разумный срок уголовного судопроизводства" при производстве в суде первой инстанции: автореф. дис.. канд. юрид. наук / К.В. Волынец. - Томск, 2013. - 23 с.
- Зацепина, М.Н. Разумный срок судопроизводства в уголовном процессе России: понятие, содержание, правовые средства реализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук / М.Н. Зацепина. - М., 2016. - 249 с.
- Кушнерев, В.И. Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства в нормах, регулирующих процессуальные сроки в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук / В.И. Кушнерев. - М., 2019. - 224 с.
- Малофеев, И.В. Разумный срок как принцип уголовного судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук / И.В. Малофеев. - М., 2014. - 217 с.
- Мусаева, А.Г. Судопроизводство в разумный срок как гарантия конституционного права граждан на судебную защиту: дис. … канд. юрид. наук / А.Г. Мусаева. - М., 2013. - 159 с.
- Некенова, С.Б. Принцип обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук / С.Б. Некенова. - Саратов, 2015. - 262 с.
- Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / под ред. Т.Г. Морщаковой. - М.: Мысль. 2012.
- Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. Основные положения науки советского уголовного процесса / М.С. Строгович. - М.: Наука, 1968.
- Якубова, С.М. Дифференциация сроков расследования в связи с приостановлением производства по уголовному делу: дис. … канд. юрид. наук / С.М. Якубова. - М., 2017. - 229 с.