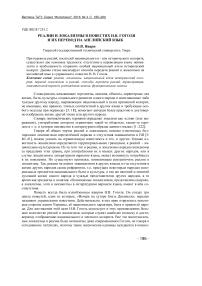Реалии и локализмы в повестях Н. В. Гоголя и их перевод на английский язык
Автор: Явари Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
При переводе реалий, носителей национального и / или исторического колорита, существуют две основные трудности: отсутствие в переводящем языке эквивалента и необходимость сохранить особый национальный и/или исторический колорит. Данная статья анализирует способы передачи реалий и локализмов на английский язык в «украинских» повестях Н. В. Гоголя.
Реалии, локализмы, национальный и/или исторический колорит, перевод локализмов и реалий, способы передачи реалий, транскрипция, описательный перевод, родовидовая замена, функциональная замена
Короткий адрес: https://sciup.org/146121943
IDR: 146121943 | УДК: 882:81’255.2
Текст научной статьи Реалии и локализмы в повестях Н. В. Гоголя и их перевод на английский язык
Слова-реалии, называющие «предметы, явления, объекты, характерные для жизни, быта, культуры, социального развития одного народа и малознакомые либо чуждые другому народу, выражающие национальный и (или) временной колорит, не имеющие, как правило, точных соответствий в другом языке и требующие особого подхода при переводе» [3: 18], помогают авторам более красочно и достоверно изображать жизнь другой эпохи или другого народа.
Словарь лингвистических терминов определяет локализм как «слово (или выражение), употребление которого ограничено такой-то областью, таким-то городом и т. п. и которое неизвестно в литературном образце данного языка» [1: 222].
Говоря об общих чертах реалий и локализмов, помимо отмеченных болгарскими лингвистами определённой окраски и отсутствия эквивалентов в ПЯ [3: 40–41], можно указать на ограниченную известность и тех, и других. Однако известность локализмов определяется территориальными границами, а реалий – национально-культурными. Из-за того что и реалии, и локализмы нередко незнакомы за пределами этих границ, при употреблении их в языках других народов, или в случае локализмов в литературном варианте языка, может возникнуть потребность в их пояснении. Но существуют признаки, позволяющие разграничить реалии и локализмы. Так, реалии не имеют эквивалентов в других языках из-за отсутствия в жизни других народов самих референтов, т.е. присущих некоторым народам материальных предметов национального быта и культуры, а так же явлений и понятий духовной жизни одного народа и чуждые представителям других народов, в то время как предметы и понятия, обозначаемые локализмами, представлены широко, а локализмы, хотя и неизвестны в литературном варианте языка, имеют в нём соответствия.
Повесть всегда была излюбленным жанром Н.В. Гоголя. Он создал три цикла повестей, один из которых, «Вечера на хуторе близь Диканьки», нередко называют украинскими повестями. Действительно, в них ярко отразились некоторые стороны жизни Украины, её национального характера, быта и нравов её народа. Для достижения этой цели Н.В. Гоголь использует в этих произведениях большое количество реалий и локализмов, которые служат наиболее полному и достоверному отображению национального и местного колорита. Все эти многочисленные локализмы и реалии были непонятны даже современникам Гоголя, не говоря о сегодняшних читателях, поэтому такие лексические единицы нуждаются в поясне- ниях, причем сегодня в большей степени, чем во времена создания произведений, так как многие предметы и понятия сегодня исчезли из жизни народа и могут вызвать значительные затруднения у читателей.
Как указывает О.А. Волошина, Н.В. Гоголь ещё в школьные годы начал работу по сбору материала для составления малорусского словаря, занося в специальную книжку слова и снабжая их комментариями. Значительную часть списка составляли украинские слова, или, по выражению Гоголя, «лексикон малороссийский». Этот материал впоследствии активно использовался автором при работе над его произведениями. Некоторые объяснения малорусских слов из этого списка Гоголь использовал при издании «Вечеров на хуторе близ Диканьки» [4].
Многие исследователи отмечают значительные трудности, связанные с переводом реалий. Основными трудностями, поджидающими переводчика при передаче реалий на другой язык, являются отсутствие в ПЯ точного соответствия переводимой реалии из-за того, что у носителей данного языка нет референта, т.е. объекта, обозначаемого этой реалией, и необходимость не только передать предметное значение реалии, но и сохранить ее национальный и исторический колорит. С.И. Влахов и С.П. Флорин, обобщая, сводят способы передачи реалий в переводе к двум основным: транскрипции и переводу (в широком смысле слова) [3: 83].
При переводе на английский язык повестей Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» [13], «Вечер накануне Ивана Купала»[14], «Майская ночь, или Утопленни-ца»[12], «Ночь перед Рождеством»[11] переводчик Кристофер Инглиш использует практически весь арсенал средств и приёмов. Например, для передачи бытовых реалий (названий предметов быта, одежды, блюд и напитков) используется одна из разновидностей перевода: описательный перевод, гиперонимический перевод, функциональная замена и контекстуальный перевод. Многие реалии также передаются при помощи транскрипции. Выбору в пользу этого способа поспособствовал сам автор созданием своего малороссийского словаря, что значительно облегчило задачу переводчику, который предварил сами повести предисловием, где сообщает, что для удобства русских читателей Гоголь предлагает словарь украинских терминов ( For the benefit of his Russian readers Gogol supplies a glossary of Ukrainian terms that appear in these stories ), а он сам некоторые из них оставляет в «их украинской форме» и даёт им пояснения, после чего следует ряд реалий с пояснениями [11: 15]. Принцип, по которому переводчик отбирал лексические единицы для этого списка, не совсем понятен, возможно, в него вошли наиболее часто встречающиеся в данных произведениях или же реалии, настолько ярко, по мнению переводчика, отображающие национальный колорит, что он посчитал необходимым познакомить с ними читателей перевода.
Анализируя частотность употребления различных способов передачи реалий при переводе на английский язык повестей Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Ночь перед Рождеством» можно утверждать, что в большинстве случаев переводчик прибегает к транскрипции. Однако говоря о транскрипции как об одном из способов передачи реалий на другой язык, можно разграничить переводческую транскрипцию, которую можно назвать «первичной» или «единичной», т.е. транскрипцию, которую вводит переводчик именно при переводе данного произведения и которая, наиболее вероятно, в дальнейшем не появится при переводе других произведений другими переводчиками, а также не войдет в словарный состав ПЯ, найдя свое отображение в словарях данного языка, и транскрипцию словарную, или «вторичную», «постоянную». В данном случае речь идёт о лексических еди- ницах, освоенных ПЯ, которые когда-то были заимствованы из ИЯ при помощи транскрипции, заняли свое место в лексическом составе ПЯ и отражены в словарях. Примером таких лексических единиц могут служить англ. troika (тройка лошадей), kibitka, что подтверждает и электронный словарь Abby Lingvo x5 Professional 20, который включает данные лексические единицы в свой состав и даёт соответствующие пояснения: kibitka – a type of covered Russian sledge и an open carriage with a folding hood and space for people to recline, troika – a Russian vehicle pulled by a team of three horses abreast. [16]. Этот факт даёт возможность говорить в данном случае не о транскрипции, а о переводе с использованием лексических средств переводящего языка, т.е. об использовании лексических эквивалентов.
На втором по частотности употребления месте идёт описательный перевод: например, реалия «чумаки» (обозники, едущие в Крым за солью и рыбою) [10: 29] передаётся как « Ox-carts, bearing salt and fish » [13: 24] или «ятка» (род палатки или шатра) [10: 33] как « stall with canvas awnings » [13: 28], при передаче реалии «обывательские лошади» в обоих случаях используется описательный перевод – « Locally owned horses » [12: 100] и « requisitioned troika » [11: 119] или и для перевода реалии «сивуха» [7: 11] – « raw vodka » [14: 60] к этому же способу обращается переводчик и для передачи локализма «наймыт» [8: 71] (Нанятой работник) – the hired man [цит. раб.: 86], данный пример можно также считать переводом пояснения, как и в случае с «казённой палатой» (губернское учреждение, ведавшее денежными сборами) [цит. раб.: 82] – Treasury [12: 100].
Следует отметить, что для перевода одних и тех же реалий переводчик использует различные способы, например реалия «плахта» (нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой ткани) [10: 29] передаётся в одном случае приблизительно « Florid skirt » (цветистая, кричащая юбка) [13: 25], а в другом – описательно « checked skirt » (клетчатая юбка) [11: 125], а «очипок» (чепец, который носили на Украине замужние женщины) [10: 30], несмотря на то, что данная лексическая единица представлена в списке транскрибированных и снабженных пояснениями реалий, лишь однажды появляется в переводе в виде транскрипции [8: 50], а в другом случае переводчик использует описательный перевод – « Floral cotton head-dress » [13: 25], реалию же «галушки», так же вынесенную в список в начале книги, в одном случае переводчик передаёт транскрипцией galushki [13: 36], а в другом производит неудачную замену реалии ИЯ на реалию ПЯ – «dumplings» (клёцки) [11: 143]. Данная замена выглядит необоснованной, так как в текст перевода ранее уже была введена транскрипция реалии, которой и можно было воспользоваться вместо замены, в результате которой национальный украинский колорит не просто потерялся, а сместился, поскольку блюдо «клёцки» к украинской кухне не относятся. Подобная замена, возможно, имела бы право на существование, если бы переводимая реалия уже не была транскрибирована и объяснена. Замена реалии ИЯ на реалию ПЯ как способ передачи реалий помогает более точно донести до читателей перевода предметное значение реалии, однако либо уничтожает, либо подменяет национальный колорит. То же можно наблюдать при переводе русской реалии «архиерей» [9: 59] английской лексической единицей «bishop» [11: 167].
Довольно часто переводчик передаёт значение реалий при помощи гиперонимического перевода в терминологии В.В. Виноградо-ва [2: 119], или родовидовой замены в терминологии С.И. Влахова и С.П. Флорина [3: 89], способа, который передаёт содержание реалии единицей с более широким значением, подставляя родовое значение вместо видового, позволяя отказаться от транскрипции и произвести замену понятий, разница между которыми в данном контексте незна- чительна, так, реалию «свитка» (род полукафтанья) переводчик передаёт как «coat»[13: 26] в одном случае и как «shirt» [14: 55] в другом, а реалию «хата»[9: 68] как «house» [11: 83]
Иногда границу между гиперонимическим переводом и функциональной заменой, когда переводчик заменяет незнакомый читателю перевода предмет или понятие другими, знакомыми, довольно сложно установить, как, например, при передаче реалии «паляница» (украинский хлеб из пшеничной муки, по форме – приплюснутый, округлый [15]) [14: 45] лексической единицей «loaf» [11: 149].
Переводчик использует такой приём, как замена реалии ИЯ на реалию третьего языка. При передаче реалии «гетьман» (гетман) в повести «Майская ночь, или утопленница» во фразе « Что он, в самом деле, задумал! Он управляется у нас, как будто гетьман какой » [8: 66] такая замена выглядит обоснованной и удачной, так как «гетьман» (гетман) обозначает не историческую украинскую реалию « начальник казачьего войска и правитель Украины в старину » [8: 66], а символ неограниченной власти. В этом случае реалия «султан», достаточно знакомая англоязычным читателям, способна вызвать у них сходные ассоциации, символизировать безграничную власть « He bosses us around like a sort of sultan » [12: 82]. Данную замену можно рассматривать как функциональную, поскольку лексическая единица «султан» входит в лексический состав английского языка, являясь при этом реалией какого-то третьего языка, некогда заимствованной и освоенной ПЯ. В некоторых случаях переводчик заменяет неизвестную читателям перевода реалию ИЯ на другую реалию ИЯ, уже им известную из предшествующего текста, либо входящую в лексический состав ПЯ. Например, «ковченики» (кушанье из муки с толченым маком) в переводе заменены на «вареники» – vareniki [12: 36], что входят в список толкований, представленный переводчиком. Подобное можно наблюдать при передаче реалии «жупан». Данная реалия уже неоднократно встречалась в тексте переводимых произведений и передавалась на английский язык путем транскрипции – zhupan [12: 130: 11: 130; 157], а её толкование приводилось в начале книги в списке, составленном на основе словаря Н.В. Гоголя. Однако в данном случае, возможно, во избежание повторов переводчик прибегает к замене реалии на другую реалию, входящую в арсенал ПЯ – сaftan [12: 57].
Локализмы, как и реалии, не имеют однозначных эквивалентов в ПЯ. Однако они имеют в литературном языке эквиваленты, которые в свою очередь без особых затруднений могут быть переведены на другой язык в словарном порядке, что можно наблюдать при переводе на английский язык повестей Н.В. Гоголя, например, «дивчина» (девочка, девушка [5: 141]) передаётся как « girl » [13: 26], «парубки» (парубок – на Украине юноша, парень [5: 428]) как « youth » [13: 26] или «youngsters» [12: 83], а «люлька» ( укр . трубка для курения [5: 286]) как «pipe» [12: 32: 14: 57: 11: 121].
Таким образом, при переводе локализмов основной трудностью для переводчика, особенно не носителя ИЯ, является определение эквивалента локализма в литературном образце языка.
Затруднения в понимании некоторых локализмов могут быть обусловлены тем, что данные лексические единицы омонимичны другим единицам из состава литературного варианта языка и иногда затруднительно распознать значение слова. Так, «люлька» согласно словарю Н.С. Ожегова, на Украине обозначает трубку для курения, в то время как в русском языке это и колыбель младенца, и помост для подъема материалов [5: 286], а «малахай», имеющий в русском языке значение «большая шапка на меху с наушниками» [8: 288] в следующем контексте «…Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, <…> надеть на голову шапку из черных смушек <…>, дать в одну руку малахай, а в другую люльку, то заткнул бы он за пояс всех парубков…» [7: 8] обозначает длинную плеть, о чём можно догадаться только из контекста. Проблемы с пониманием значения при отсутствии пояснения могут возникнуть и с лексической единицей «комиссар», имеющей во времена Гоголя значение «должностное лицо, ведавшее сбором податей, сельской полицией, дорогами» [8: 77], и известной современникам автора, а сегодня читатели, знакомые с советской историей, могут воспринять эту лексическую единицу как именующую «представителя Коммунистической партии в военных частях (кораблях), соединениях вооружённых сил, наделённый командными полномочиями», что, несомненно, внесёт путаницу в восприятие произведения.
Не всегда, однако, в литературном образце языка можно найти однозначный эквивалент для локализма, иногда объяснить его можно лишь описательно, например, «покут» – «место в углу под иконами, считавшееся самым почётным» [8: 68]. На английский язык переводчик передаёт данный локализм описательно – «place of honour» [12: 83].
При переводе локализмов на другой язык переводчик сталкивается с меньшими трудностями, чем при работе с реалиями из-за наличия у локализмов эквивалентов в литературном варианте языка, дающих возможность словарного перевода, однако другие способы, применяемые при переводе реалий, могут использоваться переводчиками при передаче локализмов.
Анализ способов перевода реалий в «украинских» повестях Н.В. Гоголя позволил выявить неописанные ранее способы передачи реалий на другой язык, которые могут рассматриваться либо как самостоятельные приёмы, либо как разновидности способа функциональной замены, – замена реалии ИЯ на другую реалию ИЯ, по каким-либо причинам лучше известную читателям перевода, или на реалию третьего языка, также знакомую читателям. Эти реалии-заменители могут быть как реалиями в полном смысле, так и реалиями, заимствованными и освоенными ПЯ.
Рассмотренные примеры подтверждают справедливость выводов С.И. Влахова и С.П. Флорина о частотности употребления различных способов при переводе реалий [3: 86]. Действительно, при переводе «украинских» повестей Н.В. Гоголя на английский язык довольно часто переводчик использует различные разновидности приблизительного перевода: описательный перевод, принцип родовидовой замены, функциональный аналог и контекстуальный перевод, однако следует подчеркнуть, что и транскрипция встречаются довольно часто, в отличие от перевода на английский язык романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», где транскрипция и транслитерация используются лишь при переводе реалий с помощью лексических единиц из лексического состава ПЯ, заимствованных путем транскрибирования и освоенных ПЯ [6: 309].
Список литературы Реалии и локализмы в повестях Н. В. Гоголя и их перевод на английский язык
- Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 576 с.
- Виноградов В.С. Перевод. Романские языки: общие и лексические вопросы. 5-е изд. М.: КДУУ, 2009. 238 с.
- Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. Изд. 4-е, М.: Р. Валент, 2009. 360 с.
- Волошина О.А. Словарь, составленный Гоголем . URL: http://rus.1september.ru/view_article.php?id=200900606 (дата обращения: 10. 08. 2016)
- Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов/под ред. чл.-корр. АН СССР Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1986. 797 с.
- Явари Ю.В. Особенности перевода реалий в романе А. С. Пушкина «Евге-ний Онегин»//Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2016. № 2. С. 304-311.
- Гоголь Н.В. Вечер накануне Ивана Купала//Гоголь Н. В. Повести. М.: Худож. лит., 1979. С. 5-18.
- Гоголь Н.В. Майская ночь, или Утопленница.//Гоголь Н. В. Повести М.: Дет. Лит., 1985. С. 56-84.
- Гоголь Н.В. Ночь перед Рождеством//Гоголь Н. В. Повести. М.: Худож. лит., 1979. С. 19-59.
- Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка.//Гоголь Н. В. Повести. М.: Дет. Лит., 1985. С. 28-55.
- Gogol N. Cristmas Eve//Гоголь Н. Ночь перед Рождеством и другие рассказы На английском языке Raduga Publishers. 1991. С. 119-167.
- Gogol N. A Night in May, or the Drowned Maiden//Гоголь Н. Ночь перед Рождеством и другие рассказы На английском языке Raduga Publishers. 1991. С. 70-102.
- Gogol N. Sorochintsy Fair//Гоголь Н. Ночь перед Рождеством и другие рассказы На английском языке Raduga Publishers. 1991. С. 23-52.
- Gogol N. St. John Eve//Гоголь Н. Ночь перед Рождеством и другие рассказы На английском языке Raduga Publishers. 1991. С. 53-69.
- Словарь Академик . URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/95421 (дата обращения: 10. 08. 2016).
- Электронный словарь Abby Lingvo x5 Professional 20.