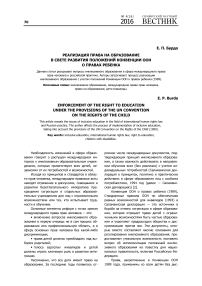Реализация права на образование в свете развития положений конвенции ООН о правах ребенка
Автор: Бурдо Е.П.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 4 (26), 2016 года.
Бесплатный доступ
Данная статья раскрывает вопросы инклюзивного образования в сфере международного права прав человека и российской практике. Авторы затрагивают процесс реализации инклюзивного образования с учетом положений Конвенции ООН о правах ребенка (1989).
Инклюзивное образование, международное право прав человека, право на образование, дети-инвалиды
Короткий адрес: https://sciup.org/14114208
IDR: 14114208
Текст научной статьи Реализация права на образование в свете развития положений конвенции ООН о правах ребенка
Необходимость изменений в сфере образования говорит о растущем международном интересе к инклюзивным образовательным учреждениям, которые приветствуют всех детей, независимо от их потребностей и возможностей.
Исходя из принципов и стандартов в области прав человека, международно-правовые акты находят отражение в дискуссиях, совещаниях и развитии безотлагательного императива прекращения сегрегации в отдельных образовательных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями или тех, кто испытывает трудности в обучении.
Основные элементы реформ с точки зрения международного права прав человека — это:
-
• включение вопросов инклюзивного образования в первую очередь не в сам процесс образования или профессиональную область, а в сферу основных прав человека без какой-либо дискриминации;
-
• права детей должны преобладать над выбором родителей;
-
• голоса взрослых инвалидов и детей должны играть ключевую роль в развитии интеграции.
Несомненно, что все дети имеют право на образование. За последние годы появилось ог- ромное число международных документов, подтверждающих принцип инклюзивного образования, а также важность действовать в направлении обучения всех (без различия) с учетом индивидуальных потребностей (Саламанкская декларация о принципах, политике и практических действиях в сфере образования лиц с особыми потребностями, 1994 год (далее — Саламанк-ская декларация)) [2].
Права, закрепленные в Конвенции ООН 1989 года, применимы ко всем детям без дис- криминации, включая право на образование на основе равных возможностей. Данное правило требует, чтобы государства-участники обеспечили образование для людей с ограниченными возможностями в интегрированных структурах. Саламанкская декларация обеспечивает высокую четкость и самым недвусмысленным образом указывает об обязанности обычным школам принимать всех детей, независимо от их физических, интеллектуальных, эмоциональных, социальных, языковых или других особенностей. Все направления политики в области образования, в соответствии с сопроводительным письмом к Саламанкской декларации, должны предусматривать посещение школы детьми-инвалидами по месту жительства.
Рэйчел Херст относительно имплементации международно-правовых актов, которые должны использоваться на местном и национальном уровне, отмечает: «Мы должны пройти каждый дюйм пути, поощряя органы образования, школьные учреждения, учреждения высшего образования, политиков, правительства, родителей и людей с ограниченными возможностями, чтобы они работали соответствующим образом. Детям-инвалидам, молодежи и взрослым не должно больше быть отказано в праве быть полноправными и равноправными гражданами в их собственных странах» [3].
Согласно современному международному праву, дети-инвалиды не должны быть исключены из обычных образовательных учреждений и общественных институтов и тем более отделены от всех на основании их инвалидности. Инклюзивное образование, утверждает Питер Ньюэлл, «не является образовательным или профессиональным вопросом, это вопрос соблюдения прав человека» [5]. Споры об инклюзивном образовании слишком часто тонут в дискуссиях об образовательной политике, о профессиональных ролях и обязанностях. Конечно, эти вопросы тоже актуальны при реализации инклюзивных стратегий в области образования, но факт остается фактом, что дети с ограниченными возможностями чаще других сталкиваются с дискриминацией.
Сама по себе Саламанкская декларация поддерживает точку зрения прав человека, утверждая, что «инклюзивное образование и инклюзивное участие необходимы для реализации уважения человеческого достоинства и прав человека». Саламанкская декларация и Конвенция ООН о правах ребенка дают четкое понимание того, что международно-правовые стандарты в сфере инклюзивного образования следует рас- сматривать как международно-правовые стандарты в области прав человека и как принцип современного международного права.
Конвенция ООН о правах ребенка закрепляет много положений, относящихся к борьбе за инклюзивное образование. Томас Хаммарберг, бывший вице-председатель Комитета ООН по правам ребенка, видит документ как «не просто список минимальных требований». Конвенция пытается сформулировать положение, отношение, философию по отношению к детям с особенностями или различиями развития. Эта философия, полагает он, имеет два основных направления: «Каждый ребенок уникален в своих интересах, способностях и потребностях; и каждый ребенок имеет возможность пользоваться своими правами без какой-либо дискриминации» [2]. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года утверждает, что дети — это лица, имеющие право чувствовать самостоятельно.
Права детей-инвалидов изложены в статье 23 Конвенции ООН о правах ребенка и напоминают политикам и другим лицам, принимающим решения, что каждый ребенок с инвалидностью имеет право на образование и не должен быть исключен из данного процесса по какой-либо причине и/или признаку дискриминации. Данное положение толкуется в свете статьи 2, которая гласит, что все права распространяются на всех детей без дискриминации. Другими словами, статья 23 поддерживает статью 2, но не заменяет ее и служит признанием того факта, что дети с ограниченными возможностями зачастую исключаются из обычного образовательного процесса.
Существует удручающая тенденция использования своеобразного языка, который заставляет нас чувствовать себя более комфортно при нарушении прав человека. Легче говорить о «специальном» образовании, а не допускать мысли о реальной «обязательной сегрегации». Мы все хотели бы чувствовать себя «особенными», что заставляет нас чувствовать себя хорошо, но дети-инвалиды и их семьи могут свидетельствовать, что для них сформировано так называемое «специальное образование», кото- рое исключает их из общего образования. Отказ от обычных, повседневных отношений, возникающих между теми, кто физически полноценен, и теми, кто имеет определенные физические особенности, является нездоровым и неприемлемым.
У нас есть законодательная норма, которая позволяет органу образования для обозначения отдельной школы эффективно использовать процедуры посещаемости школы, чтобы заставить ребенка учиться в этом образовательном учреждении, а не в школе, которую он или она будут посещать, если они не имеют «особых потребностей». Неспособность видеть инклюзивное образование в качестве основного вопроса создала ситуацию, когда неинвалиды приглашают людей с ограниченными возможностями войти в «их» мир как акт благотворительности, они не признают право народа быть неразделенным на основании физических различий. В современном мире люди сообщают громко и ясно: «Вы можете быть частью нашего мира, но с нашего позволения и только на наших условиях» [1]. Мы видим это, когда ребенок-инвалид имеет «разрешение» для посещения обычной школы или высшего учебного заведения.
Конвенции ООН о правах ребенка, Стандартные правила и Саламанкская декларация говорят о международной поддержке инклюзивного образования. В статье 3 Конвенции ООН о правах ребенка говорится, что все действия и решения должны приниматься в наилучших интересах ребенка. Но, как отмечает Питер Ньюэлл, взрослый эгоизм является одним из основных препятствий на пути включения детей с ограниченными возможностями осуществлять свои полные права человека. Есть некоторые взрослые, утверждает Питер Ньюэлл, которые «сохраняют в защите статус-кво, часто используя концепцию интересов ребенка, которая часто неправильно ими толкуется» [6].
Некоторые родители и специалисты продолжают убеждать себя, что сегрегация в специальных школах происходит в «интересах» таких детей. Томас Хаммарберг разделяет эти опасения, подчеркнув, что статья 3 Конвенции о правах ребенка о соблюдении принципа «наилучших интересов ребенка» должна приниматься в сочетании со статьей 12, которая утверждает право ребенка выражать свое мнение в любом вопросе, затрагивающем его интересы. В противном случае, считает он, статья 3 Конвенции 1989 года будет интерпретироваться как позволение взрослым принимать решения от имени ребенка, независимо от собственных взглядов самого ребенка. Сочетание этих двух статей имеет решающее значение при повторном рассмотрении политики и планов для развития инклюзивного образования.
Конвенция ООН о правах ребенка также подчеркивает ответственность родителей за благополучие своих детей, за заботу о них, но большее внимание уделяется родительским правам, закрепленным в законодательстве об образовании, за счет интересов детей и их прав, особенно права быть услышанным и чтобы их мнение учитывалось.
Политика в области образования устанавливает принцип соблюдения прав родителей, а не детей, которые получают права на участие и принятие решений. Здесь можно утверждать о прямом нарушении статьи 12 Конвенции о правах ребенка, когда мнение детей принимается во внимание при принятии решений в таких ключевых областях, как выбор школы, специальные оценки образовательных потребностей, размещения или исключения [3].
Конечно, большинство родителей активно работают в интересах своих детей, права которых не заканчиваются на пороге родного дома. «Выбор родителей» был возведен в качестве искусственного принципа и с учетом правового статуса как средства содействия сегрегации и ситуации, которая совершенно недопустима.
Культура большинства государств, как правило, не ценит детей и не воспринимает всерьез их точки зрения. Убеждение, что «дети должны быть замечены, но не услышаны», имеет свои истоки в викторианской эпохе. Тем не менее в статье 12 Конвенции ООН о правах ребенка говорится о праве детей выразить себя, свои мнения и взгляды.
Одной из основных причин сохраняющейся дискриминации и сегрегации детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями является способ определения инвалидности. Определяя себя как «нормальных», люди без инвалидности подразумевают, что есть те, кто «ненормален». Тони Бут, старший преподаватель Открытого университета, утверждает: «Мы должны бросить вызов идеи внутри себя о нормальности тела и ума и избавиться от тирании нормальности» [7]. Но это не простая задача. Он добавляет: «Чтобы по-настоящему взять на борт понятия равенства и единства, мы должны сделать глубокие переключатели в нашем мышлении». Саламанкская рамочная программа действий подчеркнула важность бережного отношения к разнообразию, предполагая, что «человеческие различия — это норма» и что системы общего образования признают это, приспосабливаясь к индивидуальным потребностям детей: «Каждый ребенок имеет уникальные характеристики, интересы, способности и учебные потребности» [4].
Инклюзивное образование предполагает принципиальное переосмысление смысла и цели образования для всех детей и молодых людей, реструктуризации обычных школ и образовательных учреждений всех типов. Большинство необходимых изменений не относятся исключительно к включению детей с особыми образовательными потребностями в общую схему образования. Они являются частью более широкой реформы образования. Образование для лиц с ограниченными возможностями должно составлять неотъемлемую часть национального образовательного планирования, разработки учебных программ и организации учебного процесса.
Инклюзивное образование не может рассматриваться в отрыве от образования в целом. Принцип инклюзивности поднимает фундаментальные вопросы о природе и цели нашей системы образования и роли, которую шко-лы/университеты играют в жизни общества. Образовательные учреждения не существуют в вакууме — они являются частью общественной жизни. Есть те, кто утверждает, что роль шко-лы/университета — исключительно привить навыки обучения у детей, а в статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка предлагается несколько более широкая перспектива. Образование, указывается в статье, должно быть «направлено на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме» [5], но также необходимо «укрепление уважения основных прав человека и воспитание уважения к культурным и национальным ценностям ребенка и других людей».
Томас Хаммарберг отмечает: «Если вы объедините право детей-инвалидов на активное участие в обществе, закрепленное в статье 23, с максимально возможной социальной интеграцией с типом образования, описанным в статье 29, логически вытекает, что мы стремимся к инклюзивной школе, где есть место для всех и образования таково, что приветствуется каждый» [4].
В стремлении развивать инклюзивное образование есть опасность рассматривать его только как проблему для людей с ограниченными возможностями и их сторонников. Питер Ньюэлл подчеркивает: «Это принципиальный вопрос для всех людей: право не подвергаться дискриминации и сегрегации по признаку индивидуальных различий» [8]. Это социальная проблема, требующая участия и заинтересованности со стороны всего сообщества.
Саламанкская декларация напоминает нам, что если мы хотим иметь инклюзивные образовательные учреждения, которые способствуют равным возможностям, и участие в этом, то «необходимы согласованные усилия не только со стороны педагогов и сотрудников, но и со стороны сверстников, родителей, семей и добровольцев» [1].
Инклюзивная школа — только одна часть головоломки, элемент инклюзивного общества. Но это краеугольный камень в создании инклюзивных сообществ. Как говорится в Саламанк-ской декларации: «Заслуга таких [инклюзивных] школ не только то, что они способны обеспечить качественное образование для всех детей; их создание является важным шагом в содействии изменению дискриминационных подходов, в создании благоприятной атмосферы в обществе и в развитии инклюзивного общества».
-
1. Ainscow M., Booth T., Dyson A., Farrell P., Frank-ham J., Gallannaugh F., Howes A. & Smith R . (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London: Routledge.
-
2. Booth T. & Ainscow M . (1998). From Them to Us: An International Study of Inclusion in Education. London: Routledge.
-
3. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) (2002). Defining Inclusion. Bristol, CSIE. Available at. URL: http://www.csie.org.uk/inclusion/index.shtml [Accessed 22 April 2011].
-
4. DAWN (2009). Dawn Handbook: Teaching Students with Disabilities: Guidelines for Academic Staff. NAIRTL: Cork.
-
5. Farrell P. & Ainscow M . (2002). Making Special Education Inclusive: From Research to Practice. London: David Fulton Publishers.
-
6. Frederickson N. & Cline T . (2002). Special Educational Needs, Inclusion and Diversity: A Textbook. Berkshire: Open University Press.
-
7. Norwich B . (2008). Dilemmas of Difference, inclusion and disability: international perspectives on placement, European Journal of Special Needs Education, Vol. 23, No. 4, p. 287—304.
-
8. Pijl S. J., Meijer C. & Hegarty S . (Eds.) (1997). Inclusive Education: A Global Agenda. London: Routledge.
Список литературы Реализация права на образование в свете развития положений конвенции ООН о правах ребенка
- Ainscow M., Booth T., Dyson A., Farrell P., Frankham J., Gallannaugh F., Howes A. & Smith R. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London: Routledge.
- Booth T. & Ainscow M. (1998). From Them to Us: An International Study of Inclusion in Education. London: Routledge.
- Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) (2002). Defining Inclusion. Bristol, CSIE. Available at. URL: http://www.csie.org.uk/inclusion/index.shtml .
- DAWN (2009). Dawn Handbook: Teaching Students with Disabilities: Guidelines for Academic Staff. NAIRTL: Cork.
- Farrell P. & Ainscow M. (2002). Making Special Education Inclusive: From Research to Practice. London: David Fulton Publishers.
- Frederickson N. & Cline T. (2002). Special Educational Needs, Inclusion and Diversity: A Textbook. Berkshire: Open University Press.
- Norwich B. (2008). Dilemmas of Difference, inclusion and disability: international perspectives on placement, European Journal of Special Needs Education, Vol. 23, No. 4, p. 287-304.
- Pijl S. J., Meijer C. & Hegarty S. (Eds.) (1997). Inclusive Education: A Global Agenda. London: Routledge.