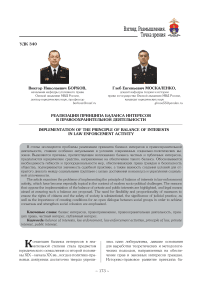Реализация принципа баланса интересов в правоохранительной деятельности
Автор: Борков В.Н., Москаленко Г.Е.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 4 (57), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются проблемы реализации принципа баланса интересов в правоохранительной деятельности, ставшие особенно актуальными в условиях современных социально-политических вызовов. Выделяются причины, препятствующие воплощению баланса частных и публичных интересов, предлагаются юридические средства, направленные на обеспечение такого баланса. Обосновывается необходимость гибкости и пропорциональности мер, обеспечивающих права граждан и безопасность общества, подчеркивается значимость судебной практики, а также важность создания условий для открытого диалога между социальными группами с целью достижения консенсуса и укрепления социальной сплоченности.
Баланс интересов, правоприменение, правоохранительная деятельность, принцип права, частный интерес, публичный интерес
Короткий адрес: https://sciup.org/140308670
IDR: 140308670 | УДК: 340
Текст научной статьи Реализация принципа баланса интересов в правоохранительной деятельности
Концепция баланса интересов в значительной степени стала предметом юридического осмысления со второй половины XIX – начала XX вв., когда в политико-правовых доктринах достаточно твердо укрепи- лись идеи либерализма, давшие основания для выработки теоретических и методологических подходов, направленных на обеспечение прав и законных интересов граждан. Историко-правовое развитие принципа ба- ланса интересов свидетельствует о его глубокой связи с основополагающими правовыми и этическими категориями, такими как справедливость, равенство и законность.
В последние годы концепция баланса интересов получила очередной веток актуальности в современной отечественной и зарубежной юридической науке. Причиной этого послужили активные изменения в законодательстве и правоприменительной практике, вызванные пандемией COVID-19, а также нестабильностью международной обстановки, следствием которой является возросшая потребность государства в укреплении национальной безопасности. С одной стороны, пандемия и глобальные кризисы усилили необходимость защиты общественных интересов и ужесточения правового регулирования. С другой стороны, возникает потребность в сохранении и защите прав и свобод граждан, интересов частных лиц и организаций, что требует большей гибкости правоприменительной практики и учета индивидуальной специфики применительно к каждому случаю.
Баланс интересов представляет собой ключевой принцип правового регулирования, направленный на достижение справедливого соотношения между противостоящими и противоречивыми интересами различных субъектов правовых отношений. Он подразумевает не только соблюдение формального равенства в правах и обязанностях сторон, но и создание условий, при которых субъекты правоотношений могут реализовать свои законные интересы в рамках действующего правопорядка. При этом баланс интересов должен быть эффективным, гибким и соответствовать требованиям справедливости, которые могут меняться в зависимости от характера правоотношений и социальных условий.
Рассматривая данную проблему в ракурсе развития современной отечественной правовой системы, следует отметить, что вопрос поиска оптимального сочетания частного и публичного интересов приобретает особую актуальность на переломных этапах развития государства, решающего сложные задачи, требующие консолидации общества. История демонстрирует, что необходимое объ- единение усилий граждан перед лицом внутренних и внешних угроз достигается в числе прочего посредством государственного принуждения.
В юридической доктрине публичные интересы представляют собой интересы государства и общества в целом. Такие интересы направлены на защиту общественного порядка, национальной безопасности, поддержание стабильности и справедливости в обществе. «Здесь возможно применение мер, в какой-то степени ущемляющих интересы конкретного человека, но это делается во благо общества, а значит, и данного индивида, и в строго дозированных масштабах, когда другими методами невозможно решить ту или иную проблему» [5, с. 290]. В таких условиях актуализируется деятельность правоохранительных органов и роль публичного права, в частности антикриминального законодательства. Его формирование как важнейшего раздела системы права немыслимо без «приведения правовых институтов в согласие с конституционными императивами» и доктринальными положениями теоретико-правовой науки. «По большому счету, – верно отмечает В.Ф. Луговик, – право в целом имеет (по крайней мере, должно иметь) антикрими-нальный потенциал, так как предопределено гармонизировать личные, общественные и государственные интересы, обеспечивая тем самым охрану правопорядка и безопасность общества» [10, с. 114].
Исключительным средством регулирования общественных отношений и реагирования на опасное поведение является уголовный закон. Мера его возможной репрессивности предполагает соблюдение справедливого баланса между интересами личности и общества при криминализации деяний и в процессе применения уголовно-правовых норм. Так, в уголовном праве баланс интересов проявляется в необходимости сочетания прав личности на справедливое и гуманное наказание с интересами общества в защите от преступности. Одним из средств достижения такого баланса является учет всех смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, через призму анализа личности преступника, а также характера совершенного общественно опасного деяния.
Проблема определения допустимой меры ограничения личных свобод граждан для защиты интересов общества и государства, обеспечения их безопасности при осуществлении уголовно-правовой охраны общественных отношений часто становится предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Например, раскрывая конституционно-правовой смысл ст. 212.1 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение установленного порядка проведения пикетирования, высший орган конституционного контроля указал, что основанием уголовной ответственности может быть только такое незаконное проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, которое «повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям» 1. Уточнение Конституционным Судом РФ содержания уголовно-правового запрета, содержащегося в ст. 212.1 УК РФ, обязывающее правоприменителя помимо формального установления признаков соответствующего состава устанавливать опасность содеянного для общества, вполне соответствует идее об исключительном характере уголовно-правового реагирования только на деяния, обладающие криминальной степенью общественной опасности.
Достаточно остро проблема сохранения баланса интересов индивида и общества стоит при осуществлении государством правоохранительной функции вызванной необходимостью борьбы с преступностью. Однако особые трудности вызывает определение сущности такого баланса в сфере национальной безопасности, где компромисс между общественным и личным зачастую сложно реализуем как в теории, так и на практике, особенно если речь идет о высоком уровне угроз и рисков для государства.
В то же время частные интересы связаны с реализацией прав и свобод физических и отдельных юридических лиц. Стремление обеспечить баланс между этими интересами обусловлено необходимостью учитывать требования прав человека и одновременно поддерживать государственный порядок. «Право на неприкосновенность частной жизни не идеально, – пишет В.А. Гусев, – и, несмотря на то что относится к естественным правам человека, может быть ограничено органами государственной власти в интересах подавляющего большинства общества. Более того, государство по своей сути призвано защищать права, свободы и законные интересы общества, которое наделило его этой обязанностью. В связи с этим государственные правоохранительные органы обладают полномочиями ограничивать право отдельных граждан на неприкосновенность их частной жизни, в том числе в рамках оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования…» [6, с. 26]. И если правоотношения, развивающиеся в сфере уголовного судопроизводства, достаточно регламентированы, имеют предполагающее учет сторон позитивное регулирование, а уголовный закон предусматривает специальные средства их уголовно-правовой охраны, то оперативно-розыскная деятельность требует дальнейшего развития законодательного оформления. «Абстрактность ряда определений и понятий либо полное отсутствие раскрытия содержания отдельных из них» позиционируется в качестве «недостатка оперативно-розыскного законодательства» [3, с. 464].
Злободневность идеи развития оперативно-розыскного законодательства придает тенденция к повышению роли результатов оперативно-розыскной деятельности при осуществлении правосудия. Например, В.С. Балакшин и М.В. Назаров предлагают «с учетом актуальных вызовов со стороны преступного мира, а также наличия технических средств, позволяющих осуществлять ОРМ «объективного характера», … упростить процессуальную форму ввода оперативно-служебных документов в материалы уголовного дела» [4, с. 9]. «Борьба с преступностью в современных условиях неизбежно связана с негласным использованием всего комплекса правовых, организационно-тактических, информационно-аналитических и технических средств получения, анализа и оценки сведений, что практически невозможно без использования оперативно-розыскных сил, средств и методов» [8, с. 38]. Рост влияния на решения, принимаемые в сфере уголовного судопроизводства, результатов оперативно-розыскной деятельности не может не сопровождаться уточнением ее форм, развитием средств обеспечения баланса интересов ее участников с задачами борьбы с преступностью и обеспечением безопасности общества.
«При проведении практически любого оперативно-разыскного мероприятия, – отмечает Г.С. Шкабин, – возможно причинение вреда объектам, охраняемым уголовным законом. Это может произойти как при опросе или наведении справок, когда собираются сведения, которые могут составлять личную или семейную тайну, так и проведении оперативного эксперимента или оперативного внедрения» [12, с. 36]. О соблюдении в таких условиях баланса между мерой ограничения права человека и необходимой защитой публичного интереса можно говорить, только если деятельность оперативных сотрудников осуществлялась исключительно в правоохранительных целях.
Судебная практика играет важнейшую роль в выработке и формировании подходов к обеспечению баланса интересов участников различных правоотношений. Конституционный Суд РФ регулярно ссылается на принцип баланса интересов в своих решениях, обосновывая им необходимость соразмерного ограничения прав и свобод граждан в интересах общества и государства либо, напротив, обосновывая ограничение публичных интересов в пользу частных.
Использование прецедентов позволяет судам опираться на уже принятые решения и подходы, сформулированные в них, при разрешении конкретных споров и разграничении интересов участников правоотношений. Хоть судебный прецедент и не является источником права в отечественной правовой системе, использование практики вышестоящих судов позволяет нивелировать правовую неопределенность принципа баланса интересов, обеспечив при этом унификацию правоприменительной практики и принятие справедливого решения относительно конкретной жизненной ситуации, нуждающейся в урегулировании.
В исследуемом аспекте интересна правовая позиция Конституционного Суда РФ по жалобе П.О. Вильке на несоответствие Конституции РФ ст. 137 УК РФ, которая позволила признать его «виновным в совершении незаконного собирания сведений о частной жизни граждан, составляющих их личную или семейную тайну, без их согласия». Заявитель установил на телефон малолетнего сына программное средство родительского контроля, позволяющее прослушивание и запись происходящего вокруг ребенка, желая обеспечить его безопасность и защитить от негативного влияния матери, с которой он находился в разводе. Квалификацию действий П.О. Вильке по ч. 1 ст. 137 УК РФ суды обосновывали тем, что он фактически собирал сведения о частной жизни других лиц, составляющую их личную тайну, без их согласия. Конституционный Суд РФ, признавая ч. 1 ст. 137 УК РФ не противоречащей Конституции РФ, выявил ее конституционно-правовой смысл, в соответствии с которым данная норма не предполагает привлечения к ответственности родителя, который использовал мобильное приложение «исключительно в целях реализации своих прав и обязанностей по обеспечению безопасности ребенка», хотя при этом ему и стали доступными сведения о частной жизни других лиц, составляющие их личную или семейную тайну1. Принимая такое решение, высший орган конституционного контроля исходил из приоритетности ценностей материнства, отцовства, а также права ребенка на жизнь, свободу, защиту от преступных посягательств и любого другого неблагоприятного воздействия на его нормальное развитие в сравнении с неприкосновенностью частной жизни.
В западной юридической науке проблема обеспечения баланса интересов также является предметом активных научных изысканий. О необходимости поиска такого баланса высказывался выдающийся американский правовед и философ Рональд Дворкин, который, прибегнув к метафоре, отмечал: «Так же как интерпретация в рамках коллективного романа-цепочки для каждого интерпретатора является нахождением тонкого баланса между различными видами литературных и художественных подходов, так же и в праве это нахождение тонкого баланса политических убеждений различного рода; в праве, как и в литературе, они должны быть достаточно взаимосвязаны, но отдельны, для того чтобы позволять делать общее суждение, находящее балансом между успехом той или иной интерпретации в соответствии со стандартом одного рода и его провалом в плане другого» [6, с. 323]. Зарубежные исследователи констатируют расплывчатость концептуальных основ принципа баланса интересов, что, по их мнению, приводит к правовой неопределенности и затрудняет достижение единообразной правоприменительной практики. В данном контексте зарубежная юридическая доктрина сталкивается с теми же проблемами, что и отечественная.
Анализ результатов исследований зарубежных правоведов демонстрирует тот факт, согласно которому реализация принципа баланса интересов осуществляется путем применения к конкретным правоотношениям иных действующих общеправовых и отраслевых принципов права, выстроенных в определенной иерархической последовательности. Р. Дворкин развивал идею, следуя которой, судьи должны искать «лучшее толкование» права в условиях конкретной правовой системы, учитывающее моральные принципы, идеи равенства и справедливости. По его мнению, баланс между частными и публичными интересами достигается через применение принципов, которые обеспечивают справедливое решение, учитывающее права индивидов, а также ценности, лежащие в основе законных интересов общества.
Теоретик права Роберт Алекси также признает ведущую роль принципов права при обеспечении баланса интересов. Исследователь пишет: «Принципы – это нормы, которые предписывают, что нечто должно быть реализовано в максимально возможной степени с учетом юридических и фактических возможностей. Принципы – это требования оптимизации» [1, с. 54]. По его мнению, принципы требуют, чтобы заложенная в их содержание идея, ценность или цель обязательно реализовались. «Если кто-либо осуществляет при вынесении решения поиск баланса (интересов), он неизбежно опирается на принципы», – отмечает автор [2, с. 93]. Однако реализация одного принципа может быть ограничена либо требованиями другого принципа, либо фактическими обстоятельствами, в связи с чем утрачивается возможность реализации баланса интересов. Для преодоления данного препятствия Р. Алекси развил и усовершенствовал сформулированный Р. Дворкиным закон баланса, состоящий в оценке «веса» конкретного принципа: «Чем больше степень несоблюдения или ограничения одного принципа, тем более весомым должно быть выполнение другого принципа» [1, с. 56]. Аналогичный способ обеспечения реализации принципа баланса интересов предлагают и другие зарубежные правоведы, в числе которых Лон Фуллер, Марк ванн Хук, Пьер Бурдь ё и др.
На наш взгляд, изложенный подход, безусловно, заслуживает признания и отчасти способствует поиску баланса интересов участников правоотношений, однако при этом, измерение «веса» принципов не решает поставленной проблемы. Во-первых, само по себе определение иерархии принципов права создает ряд трудностей. Во-вторых, интерпретация принципов права является одной из ключевых проблем юридической науки. В-третьих, определение степени интенсификации и абстрактного веса принципов является достаточно субъективным. В конечном счете динамичные социальные условия всег- да оказывают влияние на правоприменительную практику, даже в условиях теоретически возможного преодоления всех вышеперечисленных препятствий.
Также в вопросе поиска баланса интересов заслуживает внимание позиция Юргена Хабермаса. Мыслитель, развивая теорию коммуникативного действия, акцентировал внимание на необходимости согласования различных социальных интересов через широкий рациональный дискурс. Он утверждал: «Правовая система должна обеспечивать условия для открытого диалога, способствующего достижению консенсуса между различными социальными группами» [11, с. 147]. Такой подход находит отражение в современной отечественной науке. Так, В.И. Червонюк и И.В. Калинский отмечают: «С практической точки зрения (потребностей конституционной практики) баланс интересов есть общий критерий действительности законодательно признаваемых норм права, является индикатором и показателем качества закона, его конституционности и социальной адекватности (точности, приемлемости)» [1, с. 39]. Реализация данной идеи позволяет увидеть право как механизм обеспечения баланса и интеграции разнообразных общественных интересов.
Следует констатировать, что основной проблемой реализации принципа баланса интересов является сложность его четкого концептуального оформления и методологического осмысления. К сожалению, баланс интересов не может быть сформулирован в качестве строго определенного юридического принципа, а является юридическим идеалом, что затрудняет его применение в правоприменительной практике. Это приводит к тому, что в каждом конкретном случае правоприменитель вынужден самостоятельно искать оптимальное соотношение публичных и частных интересов, опираясь на собственные суждения и другие принципы права. Такой подход, хотя и обеспечивает гибкость, при этом делает процесс правоприменения непредсказуемым и подверженным субъективным интерпретациям.
Кроме того, отсутствие универсальных критериев, по которым можно было бы «взвешивать» интересы, создает неопределенность в трактовке баланса интересов. Это затрудняет выработку единообразных правоприменительных решений, что может стать причиной различий в практике применения одного и того же принципа. Неопределенность принципа «баланс интересов» препятствует его восприятию как устойчивой правовой категории, которая могла бы быть четко сформулирована в законодательных актах или актах официального толкования.
Соотношение публичных и частных интересов требует, чтобы меры, ограничивающие права граждан, были обоснованы, разумны и соразмерны общественным целям, что предотвращает злоупотребления и укрепляет доверие общества к правоохранительной системе. Баланс интересов при осуществлении правоприменительной деятельности возможен в условиях использования целого ряда мер, направленных на его достижение. Применение к конкретным правоотношениям комплекса общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципов права является необходимым для разграничения частных и публичных интересов. Судебная практика, в первую очередь решения Конституционного Суда РФ, задают стандарты обеспечения баланса интересов при осуществлении правоохранительной деятельности, способствуя единообразию и снижению правовой неопределенности.
Важным основанием эффективного правоприменения является создание условий для открытого взаимодействия, позволяющего представителям различных социальных групп достигать компромисса. Это способствует гармонизации интересов и укреплению социальной сплоченности. Наконец, повышение квалификации, а также развитие правосознания правоприменителей укрепляет их способность в принятии законных и обоснованных решений, имеющих определяющее значение для соблюдения принципа баланса интересов.
Список литературы Реализация принципа баланса интересов в правоохранительной деятельности
- Alexy, R. A Theory of constitutional rights. - Oxford university press. - 2002. - 462 p.
- Алекси, Р. Понятие и действительность права = Begriff und Geltung des Rechts: Begriff und Geltung des Rechts (ответ юридическому позитивизму) / Роберт Алекси ; пер. с нем. А.Н. Лаптева, при участии Ф. Кальшойера. - М.: Берлин: Инфотропик Медиа, 2011. - 173 с.
- Астафьев, Ю.В. Баланс интересов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности / Ю.В. Астафьев // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. - 2010. - N 1. - С. 463-472.
- Балакшин, В.С. О необходимости дополнения статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации новым видом доказательств (результаты оперативно-розыскной деятельности) / В.С. Балакшин, М.В. Назаров // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2023. - N 1. - С. 5-10.
- Босхолов, С.С. В поисках баланса интересов личности, общества и государства в сфере обеспечения национальной безопасности / С.С. Босхолов // Академический юридический журнал. - 2023. - Т. 24. - N 3. - С. 288-292.
- Гусев, В.А. Право человека на неприкосновенность частной жизни и обязанность государства обеспечить общественную безопасность / В.А. Гусев // Реализация Конституции Российской Федерации: состояние и перспективы: материалы VII международной научно-практической конференции / предс. редкол. С.К. Буряков. - Омск: ОмА МВД России, 2023. - С. 24-26.
- Дворкин, Р. Империя права / Рональд Дворкин ; пер. с англ. С. Моисеева ; научн. ред. С. Коваль, А. Павлова. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2020. - 587 с.
- Десятов, М.С. Тектонические сдвиги в представлениях о сущности правоприменения / М.С. Десятов // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2023. - Т. 29. - N 1. - С. 36-39.
- Калинский, И.В. Баланс интересов как идея права, общеправовой концепт (правовая ценность), юридическая конструкция и технологии обеспечения / И.В. Калинский, В.И. Червонюк // Криминологический журнал. - 2021. - N 3. - С. 37-43.
- Луговик, В.Ф. О конституционной иерархии и структуре антикриминального законодательства / В.Ф. Луговик // Общество и право. - 2023. - N 2 (84). - С. 112-117.
- Хабермас, Ю. Теория коммуникативной деятельности / Юрген Хабермас ; пер. с нем. А.К. Судакова. - М.: Весь мир, 2022. - 878 с.
- Шкабин, Г.С. Уголовно-правовые фикции в оперативно-розыскном законодательстве / Г.С. Шкабин // Союз криминалистов и криминологов. - 2020. - N 2. - С. 38-44.