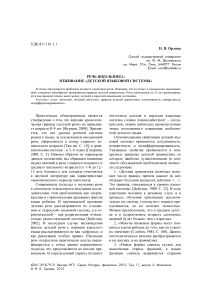Речь школьника: изживание «детской языковой системы»
Автор: Орлова Наталья Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются проблемы позднего онтогенеза речи. Показано, что в устных и письменных высказываниях учащихся своеобразно проявляются правила детской грамматики. Речь школьников до 12 лет рассматривается как промежуточное звено между детской и взрослой языковыми системами.
Онтогенез, поздний онтогенез, правила детской грамматики, ситуативность, конкретность, недифференцированность
Короткий адрес: https://sciup.org/14737734
IDR: 14737734 | УДК: 811.161.1.1
Текст научной статьи Речь школьника: изживание «детской языковой системы»
Практически общепринятым является утверждение о том, что верхняя хронологическая граница «детской речи» не превышает возраста 8–9 лет [Фурман, 2009]. Признается, что все уровни речевой системы родного языка, за исключением письменной речи, оформляются к концу старшего дошкольного возраста [Там же. С. 10], а грамматическая система – к 3–4 годам [Гагарина, 2009. С. 3]. Никоим образом не опровергая данных положений, мы обращаем внимание на ряд явлений в речи учащихся младшего и среднего школьного возраста (от 7–8 до 12– 13 лет), близких к тем, которые отмечаются в научной литературе как характеристики «канонического» периода онтогенеза.
Современные подходы к изучению речи в онтогенезе осмысляются ведущими исследователями этой проблематики как «вертикальная и горизонтальная проекции» фактов языка ребенка. В вертикальной проекции детская речь рассматривается по отношению к «взрослой» языковой системе, а в горизонтальной – как репрезентация относительно самостоятельной системы [Цейтлин, 2002]. В последнем случае несовпадения фактов детской речи с нормами взрослого языка рассматриваются не как «дефекты», а как реализации особых правил. Школьная речь подростков практически всегда квалифицируется с точки зрения нормативного подхода, что представляется не вполне правильным. В определенный период позднего онтогенеза детская и взрослая языковые системы сложно взаимодействуют – следовательно, можно наблюдать промежуточные этапы постепенного изживания особенностей детского языка.
Отличительными свойствами детской языковой системы признаются ситуативность, конкретность и недифференцированность. Указанные свойства проявляются в конкретных правилах детской грамматики, из которых наиболее существенными (в контексте обсуждаемой проблематики) являются следующие.
-
1. «Детская грамматика включает меньшее число правил, причем каждое из них обладает большим радиусом действия <…>. Это правила, относящиеся к уровню языковой системы» [Цейтлин, 1989. С. 25]. В ходе адаптации человека к речевому узусу и в процессе обучения ориентация исключительно на систему («недоучет» нормы) преодолевается, но не исчезает полностью. Можно предположить, что в среднем детстве и в подростковом возрасте системных явлений будет больше, чем у взрослых.
-
2. «Многие языковые формы могут появиться в речи ребенка до того, как он усвоит их значение» [Слобин, 1984. С. 160]. Данное онтогенетическое явление распространяется и на лексику, и на грамматику.
-
3. «Новые формы сначала служат для выполнения старых функций, а новые функции сначала выражаются старыми
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 2: Филология © Н. В. Орлова, 2012
формами» [Слобин, 1984. С. 156]. Под функциями Д. Слобин понимает значения, которые маленький ребенок хотел выразить в своих высказываниях. Речь идет о диалектике когнитивного и собственно языкового начал в процессе освоения языка. Данное правило связано с предыдущим.
-
4. Распространена сверхгенерализация, которая заключается в расширении сферы использования языковой единицы. И. В. Столярова отмечает, что явление сверхгенерализации характерно «для возраста примерно от года до 2,5 лет, причем для каждого периода развития ребенка можно выделить свой тип генерализации» [1989. С. 110-111]. Последнее замечание позволяет предполагать аналоги в позднем онтогенезе.
-
5. Освоение лексики происходит путем поиска внутренней формы слова [Гридина, 2009].
-
6. Предпочитаются развернутые формы выражения значений. В речи ребенка «глубинные семантические отношения маркируются четко при помощи внешних средств» [Слобин, 1984. С. 196].
Далее будет показано, как перечисленные свойства и правила проявляются в речи школьников. Материал для наблюдений был собран в школах г. Омска, его составили письменные тексты в жанре ответа на вопрос, мини-сочинения, сочинения на свободную тему (около 500 единиц), а также диктофонные записи (общая продолжительность разговоров более 2 часов).
От недифференцированности – к дифференциации
Время и причина . Первоклассники дифференцируют временные и причинно-следственные отношения на уровне языковых форм, используя в своей речи когда, потом, потому что, иногда поэтому. Однако в ответ на вопрос учителя: «Бывает, что вы плачете? Если вы плакали когда-нибудь, то из-за чего?» - все дети отвечают высказываниями, начинающимися с «когда», и никто не включает в свой ответ «потому что» или другие средства выражения причинноследственных отношений: когда меня обижали, когда у мамы почка болела / её в «скорую» увезли ; когда Вова толкнул меня и др. Дети вспоминают конкретную ситуацию и выражают отношение одновременности с этой ситуацией или следования за ней.
Сказать, что именно стало причиной слез (чувство одиночества, страх, жалость, обида, боль) первоклассники еще не могут. В их языке есть форма «потому что», есть когнитивная предпосылка для ее использования (причинно-следственные отношения осознаются и оформляются в более простых случаях), но в данной ситуации вместо «из-за того что» или «потому что» используется «когда» как более осмысленная ребенком единица. Предпочтение показателей времени показателям обусловленности сохраняется до среднего школьного возраста. Ситуация начинает меняться к 5-6-му классу с развитием абстрактного мышления.
Реальная и ирреальная модальность. Показательно функционирование в речи младших школьников средств выражения категории наклонения. Ученики 1-го класса полностью проигнорировали грамматическую форму сослагательного наклонения, выраженную учителем в вопросе: «А что бы вы сделали, чтобы рядом с вами другим жилось лучше?» В ответах использованы грамматические формы реальной модальности - настоящее и прошедшее время индикатива: У нас в подъезде кошка беременная, мы её кормим ; Там у нас в подъезде живёт тоже кошка, у неё хвост. Мы её перевязали . Некоторые дети в какой-то мере восприняли модальность вопроса и сказали не о том, что реально было: Ну там, голодного котёнка, может быть... Среди ответов первоклассников были и такие: Помогали всем, со всеми дружили . Из контекста ясно, что речь не шла об имевших место действиях и что автор доступными ему средствами пытался оформить предложенное значение сослагательности. К 4-му классу когнитивные предпосылки для усвоения сослагательного наклонения сформированы. Детям предлагаются сочинения на темы «Если бы я был(а) учителем...», «Если бы я жил(а) в эпоху.» и подобные, с которыми содержательно они успешно справляются. Однако около 20 % школьников продолжают для обозначения сослагательности использовать прошедшее время индикатива, чередуя данную форму с нормативной или пользуясь только индикативом: Если бы я жила в эпоху древнего Египта, я была фараоном. Помогала бы другим строить пирамиды. Я жила в пирамиде. Мне бы нравилось загорать. Отдыхала я так: смотрела на пирамиды.
Индикативом в прошедшем времени выражается у учащихся младших классов не только сослагательное наклонение, но и другие значения ирреальной модальности, например желательность. В первом классе на предложение учителя «Загадайте желание! Скажите, что загадали» был дан ответ: С мамой поехали в Париж, и я работала моделью. В 4-м классе в устной речи была получена та же картина: «Чем бы вы стали заниматься, если бы разрешили делать всё?» – Играть в компьютер ; Ходил к друзьям ; Играла на улице с утра до ночи ; С папой играли в шашки. По-видимому, устная речь учеников 4-го класса, будучи менее контролируемой ими, в большей степени сохраняет «детские» черты по сравнению с сочинениями, грамматика которых обдумывается. Начиная с 5-го класса индикативная («детская») форма сослагательного наклонения в письменной речи нам не встречалась. Устная речь учащихся среднего и старшего школьного возраста не фиксировалась.
Единичное и повторяемое действие. Значение конкретного единичного действия осознается ребенком раньше, чем значение повторяемости, регулярности действий. Когнитивным основанием такой последовательности в освоении мира является ориентация детского сознания на конкретную ситуацию. К 7 годам когнитивная дифференциация единичного и повторяемого действия уже произошла, однако языковое оформление этого процесса не завершилось. Проанализируем характерные ответы первоклассников на вопрос: «Хороший человек – какой?»; «Какой я друг?». Во-первых, для характеристики человека выбирается грамматическая форма, указывающая на единичное действие. На вопрос: «Бывает такое: учится на двойки, а человек хороший?» – следуют ответы: Ну / может / прослушал где-то; Не проверил / может. См. другой характерный ответ на вопрос о хорошем человеке: Он уступит пожилым женщинам. Во-вторых, указывая на повторяющееся действие и выбирая нормативную форму, первоклассники нередко дублируют смыслы ‘регулярность, повторяемость’ лексически, как бы «не доверяя» грамматической форме глагола: Хороший человек, он всё время книжки читает. В данном случае, на наш взгляд, использована «развернутая форма выражения значения» ‘регулярное повторяющееся действие’. Похожие наблюдения сделаны Н. И. Лепской, исследовавшей онтогенез аспектуальных значений, в том числе на материале речи младших школьников [1989].
К концу начальной школы дифференциация единичного и повторяемого действия на уровне освоения грамматической формы не завершается. В сочинениях на тему «Если бы я был (а) учителем…» соответствующие формы немотивированно чередуются либо предпочитается средство выражения единичного действия: В мае отличников я бы пораньше освободила от домашнего задания и числа 15–20 отпустила бы детей на летние каникулы ; Я бы всем своим ученикам поставил все хорошие оценки.
От ситуативности и конкретности – к обобщению
Ситуативность детской речи понимается прежде всего как обусловленность ситуацией общения. Кроме коммуникативной ситуативности, исследователи выделяют номинативную, связанную со способами представления содержания. «Повышенная» си-туативность в том и другом ее вариантах, как представляется, не исчезает в раннем школьном возрасте.
Коммуникативная ситуативность находит в школьной речи учеников младших классов специфические проявления. В ситуации беседы учителя с детьми, когда каждому предлагается ответить на один и тот же вопрос, некоторые дети повторяют полностью или частично предшествующие реплики одноклассников. Первоклассники делают это спонтанно и естественно, не добавляя к сказанному метаязыковые комментарии типа «я думаю так же, как N». Ситуация напоминает речевое поведение ребенка в раннем онтогенезе, когда он воспроизводит слово или высказывание, только что прозвучавшее в инпуте. Второй вариант ситуативности – апелляция к пережитому опыту, имевшему место в недалеком прошлом. Высказывание опирается не на текущую коммуникативную ситуацию (что характерно для раннего онтогенеза), а на ситуацию, незначительно отодвинутую от нее во времени. Школьники 5–6-х классов в сочинениях на тему «Зачем мы учим русский язык?» упоминают материал, изучае- мый либо повторяемый в период написания сочинения.
Характерной чертой речи школьников младших классов является номинативная ситуативность: объект действительности передается в речи в виде развернутой пропозиции, отражающей некую ситуацию. См. характерные примеры из беседы учителя с первоклассниками. Учитель: А вы слышали слово «приличный»? - Дети: Это значит красивые манеры показывает ; На улицу никогда не выйдет растрёпой ; Он никогда не будет драться. Показательно введение автором первой реплики глагола-предиката «показывает». Нормативным оформлением того же смысла была бы бытийная либо посессивная пропозиция (ср.: «приличный – тот, у кого красивые манеры»). Ребенок трансформирует ее в зрительно воспринимаемую, такую, в которой человек совершает квазидействие. Номинативная ситуатив-ность и развернутость формы выражения являются проявлениями конкретности в речи школьников.
«Ненормативная» конкретность изживается в специфических для разного возраста формах обобщений. Покажем, как речь младшего школьника, постепенно осваивающего мир идеальных объектов, отражает процессы абстрагирования в моральной сфере. К 7 годам дети приобретают опыт общения на темы добра и зла. В первом классе они говорят об этом, во-первых, в форме высказываний о конкретных действиях (I); во-вторых, используя лексемы с этической семантикой и семантикой межличностных отношений (II), в том числе этические предикаты в форме прилагательных (III). См. два ответа на вопрос: «Хороший человек - какой?» Хороший - воспитанный (III), не будет на уроке выкрикивать (I) ; Никогда не станет толкать товарища (I), а будет всё время с ним дружить (II). Понятно, что в (I) уровень обобщения ниже, чем в (II) и в (III). Однако сообщения о действиях тоже не вполне одинаковы по лексико-грамматическому наполнению. Рассмотрим весь спектр формально-смысловых вариантов ответов на вопросы о «хорошем» и «злом» человеке (2010 год), пометив их цифровыми символами:
-
(I) . (1) Дерутся, обзываются ; Помогает маме убираться ; (2) Вот когда играют / считаются / и вот на этого человека выпа
ло / а он не хочет. (3) Например, мама ему сказала / иди в магазин / купи продуктов. Он пошел / не купил что-нибудь для себя / а именно продуктов. (4) Он если пойдет в лес не станет брать ежа/ он только погладит и всё. (5) Всегда обзываются.
-
(II) . (6) Они не знают, что такое друг ; Он слушается папу и маму ; Ведет себя хорошо, любит окружающих ; От природы хороший ; Душой хороший. Они помогут товарищу / плохого ничего не сделают. (7). Они всегда всё кулаками решают ; Никогда не подводит своих друзей, маму, папу, бабушку ; (8). Может защитить девочку.
-
(III) .(9) Они добрые ; Он смелый, честный ; Воспитанный.
В перечне языковых техник в рамках (I) представлены различные способы дистанцирования от конкретной ситуации: настоящее время глагола со значением повторяющегося действия (1); наречие «когда», дублирующее данный смысл (2); вводное слово «например», сигнализирующее о том, что за конкретной ситуацией стоит нечто более общее (3); союз «если», маркирующий условное наклонение (4); лексические показатели обобщения личностного опыта (5). Особенно показателен случай (5): в младшем школьном возрасте рефлексия на абстрактные темы регулярно выражается в высказываниях с кванторами всеобщности всегда, все, всё и др. Данные языковые техники включаются в высказывания (II), отражающие в целом более высокий уровень абстрагирования от конкретной ситуации (см. 7 и 8). Предпочтение I, II или III обусловлено уровнем развития языковой личности. Появление (III) в возрасте 7–8 лет еще не норма.
Начиная со среднего школьного возраста (10–12 лет) представления уступают место понятийной форме освоения моральных категорий. Одним из языковых маркеров этого процесса является регулярность ненормативного выражения «... - это когда». Здесь, как в младшем школьном возрасте, присутствует указание на ситуацию (когда…), но есть и формальный показатель того, что ребенок намерен построить дефиницию (- это...). См. примеры: Для меня справедливость - это когда человек сделал плохой поступок и ответил за него или покаялся в нем - пришел к человеку, которому сделал плохо и признался в своем поступке (5 кл.). Зависть - это когда человек видит, что другой человек лучше его (6 кл.). Прием не исчезает в старшем возрасте: Справедли- вость – это когда каждый получает по заслугам (8 кл.). Абстрагирование от конкретных ситуаций выражается в том, что субъектом высказываний является уже не «он» или «они», как в 1-м классе, а «человек», причем слово «человек» употребляется в нереферентном значении. Акциональные глаголы уступают место лексике со значением восприятия, оценки, межличностных отношений.
В заключение выскажем предположение, что одной из примет перехода школьника от «детского» языка к «взрослому» является изменение соотношения между творчеством и стереотипностью. С определенного возрастного периода воспроизводство не только доминирует на уровне лексем, но распространяется на более крупные единицы. В сочинениях возрастает количество стандартных выражений, клише, расхожих фраз. Происходит это примерно в 8–9-х классах, т. е. когда подростку исполняется 13–14 лет.
Итак, расставание школьника с его «первым языком» происходит не сразу. В младшем и даже в среднем школьном возрасте его речь еще подчиняется правилам детской грамматики. Особенно ярко проявляется ситуативность, предпочтение развернутых форм свернутым; в начальной школе отмечается недифференцированность отдельных грамматических категорий. Овладение отдельными нормами взрослой языковой системы происходит у разных языковых личностей не одновременно. Общим признаком, формирующимся у большинства детей в период между начальной и средней школой (10–11 лет), является ослабление ситуатив-ности. Оно протекает как постепенное усложнение системы средств выражения понятий.