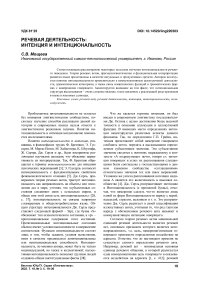Речевая деятельность: интенция и интенциональность
Автор: Мощева Светлана Васильевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лингвистическая дискурсология и речевая деятельность
Статья в выпуске: 3 т.19, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению некоторых подходов изучения интенциональности речевого поведении. Теория речевых актов, прагмалингвистическая и функциональная интерпретации развития языка представлены в качестве актуальных и продуктивных средств. Автором исследуется понятие интенциональности применительно к коммуникативным целям речевой деятельности, грамматическим категориям, а также связь семантических функций в грамматических формах с намерениями говорящего. Акцентируется внимание на том факте, что интенциональная структура высказывания - очень сложное явление, тесно связанное с реализацией ряда признаков в языке и языковых единицах.
Речевой акт, речевая деятельность, интенция, интенциональность, полимодусность
Короткий адрес: https://sciup.org/147238667
IDR: 147238667 | УДК: 81’25 | DOI: 10.14529/ling220303
Текст научной статьи Речевая деятельность: интенция и интенциональность
Проблематика интенциональности не остается без внимания лингвистическим сообществом, поскольку изучение способов реализации данной категории в современных языках нельзя отнести к лингвистически решенным задачам. Понятия интенциональность и интенция неоднозначно понимается исследователями.
Понятия интенциональности и интенции , развиваясь в философских трудах Ф. Брентано, Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти, М. Хайдеггера, K. Штумпфа, Ж. Сартра, Дж. Серля и др., были восприняты различными научными школами, что объясняет вариативность их интерпретации. Так, Ф. Брентано обращается к термину интенциональность для описания психических переживаний [3]; Э. Гуссерль соотносит интенциональность с фундаментальным свойством феноменологического сознания [5]. Дж. Серль, приверженец теории речевых актов, трактует интенциональность как направленность на объекты или положения дел в мире, уточняя, что «субъективные состояния соединяют меня с остальным миром, и общее имя этой связи есть интенциональность» [28, с. 37]; интенциональность не связана напрямую с намерением в общеупотребительном языке. Общую структуру интенциональности Дж. Серль представляет следующей формой – S(p), где буква «S» обозначает тип психологического состояния, а «р» – пропозициональное содержание этого состояния. Пропозициональные интенциональные состояния обычно имеют условия выполнимости и направление соответствия. Функции интенциональности состоят лишь в том, чтобы задавать условия выполнения, имея в качестве предпосылки доинтенциональные или неинтенциональные способности. Интенциональность, по мнению автора, может быть не только индивидуальной, но также и коллективной; коллективная интенциональность позволяет группам людей создавать общие институциальные факты [28].
Что же касается термина интенция, он был введен в современную лингвистику последователями Дж. Остина с целью достижения более высокой точности в описании иллокуции и иллокутивной функции. В имеющих место определениях интенции акцентируются различные аспекты данного феномена. Так, по определению Г.П. Грайса, интенция представляет собой намерение говорящего сообщить нечто, передать в высказывании определенное субъективное значение. Это субъективное значение сводится к понятию, выражаемому в контексте «А подразумевает нечто, говоря х »; интенции говорящих и успех их распознавания слушающими были соотнесены с господствующими в данном языковом сообществе «соглашениями» относительно значения тех или иных выражений. Условием же успеха распознавания интенции индивида А является его включенность в языковое сообщество [4]. Дж. Серль разграничивает интенцию и Интенциональность (с прописной буквы), отмечая, что намерение сделать что-то является лишь одной из форм Интенциональности наряду с верой, надеждой, страхом, желанием и т. п. Это разграничение Дж. Серль реализует в своей классификации иллокутивных актов, учитывая то, что ряд глаголов наряду с обозначением речевого акта называет и коммуникативную интенцию говорящего.
Согласно теории речевых актов минимальной единицей речевой деятельности является речевой акт, основным признаком которого является целенаправленность, т.е. цель, намерение/интенция говорящего произвести определенное воздействие на адресата. Отметим, что до настоящего времени не существует единого определения речевого акта. Например, речевой акт – минимальная основная единица речевого общения, в которой реализуется одна коммуникативная цель говорящего и оказывается воздействие на адресата [1, с. 412]; речевой акт – элементарная единица речи, последовательность языковых выражений, произнесенная одним говорящим [18, с. 140]; речевой акт – выбор одной из многочисленных переплетающихся между собой альтернатив, образующих «семантический потенциал» языка [19, с. 142] и др.
Лингвистические характеристики речевого акта достаточно обширны:
-
– речевой акт может быть крупнее предложения (высказывания) либо меньше (например, составная часть предложения) [24, с. 436]. Определение границ речевого акта остается не до конца решенным научным вопросом. Кроме того, высказывание может состоять из нескольких речевых актов. Например: “I apologize for what I have done and I promise you not to do it again” – включает акт извинения и обещания; второе высказывание “If you do not want to take off your hat, leave this house” – директивный речевой акт, который релевантен при определенном условии [29, с. 248]. Реализация нескольких речевых актов в сложном предложении определяется как сложный речевой акт [31], который может быть комплексным, композитным, составным;
-
– универсальные свойства речевого акта противопоставлены тем, которые специфичны для конкретного языка: перлокуции всегда универсальны, а иллокуции бывают и универсальными, и специфическими [32, с. 25];
-
– речевой акт связывает между собой вербальное и невербальное поведение [30, с. 381];
-
– речевой акт, рассматриваемый как поверхностная структура предложения, не есть производная от скрытых структур, а непосредственная реальность речи [20, с. 77];
-
– понимание предложения зависит от установления цели речевого акта; соответственно выявление иллокутивной силы предложения входит в описание языка [25, с. 3];
-
– понимание предложения, в котором реализуется речевой акт, связано с процессом дедуктивного вывода в обыденном мышлении, что по-новому ставит вопрос о соотнесенности грамматики (и норм) языка, с одной стороны, и мышления – с другой [15, с. 62–63];
-
– речевой акт позволяет разграничить текст и подтекст [7, с. 298];
-
– речевой акт связан с понятием «фрейма» (рамки); задачей речевого акта является воздействие на мысли адресата, когда он интерпретирует высказывание говорящего [16, с. 220–249];
-
– речевой акт включает в грамматическое описание прагматические понятия контекста и роли говорящего и адресата, лежащие в рамках конвенций и норм конкретного общества [21, с. 78];
-
– речевой акт соединяет предложение с высказыванием [23, с. 226];
-
– речевой акт – это и коммуницирование (передача информации), и нечто, вовлекающее в себя
динамику интеллекта и эмоций: то или иное высказывание с его выбором слов и расстановкой акцентов может привести к переоценке ценностной системы говорящих, что отразить прямо в терминах РА не всегда возможно [17, с. 50–54].
Многие исследования РА указывают на необходимость принимать во внимание не только намерение и мнение говорящего, но и природу речевого общения, главным образом зависящую от взаимоотношений и взаимодействия говорящего и слушающего [26, с. 175].
Некоторые исследователи в речевом акте выделяют: а) антропоцентрический блок, охватывающий аспекты, которые связаны с адресатом, адресантом и интенциональной направленностью высказывания; б) блок отображения условий и способов реализации речевого акта. Комплекс задач, которые связаны с адресантом, объединяет его коммуникативные и психологические характеристики, социальные и ситуативные роли, способствующие формированию стратегий и тактик коммуникации. Наличие адресата в высказывании и его представленность языковыми средствами не является обязательным условием, что не исключает знание социального и психологического параметров адресата, которые оказывают прямое влияние на тональность высказывания и выбор того или иного речевого акта, а также форму презентации сообщения.
Многие исследования РА указывают на необходимость принимать во внимание не только намерение и мнение говорящего, но и природу речевого общения, главным образом зависящую от взаимоотношений и взаимодействия говорящего и слушающего.
Сложность исследования интенциональной структуры речевого акта связано и с тем, что в реальном общении происходит накладывание нескольких различных целей и намерений говорящего, поэтому эффективность речевой стратегии оценивается по достижению максимального количества целей либо в зависимости от их иерархии. Изучение интенциональности речевого поведения включает и анализ постулатов общения, принци-пов/правил коммуникации, т. е. учения о правилах (максимах) коммуникации, которые выявляют новые, ранее не исследуемые способы логической организации коммуникативного общения, участвующие в формировании значения высказываний и оказывающие влияние на ситуацию общения в целом. Это хорошо известный принцип Кооперации, предложенный Г.П. Грайсом, который содержит максимы количества, качества, отношения и способа [3], а также принцип Вежливости, характеризующий отношения между говорящими [22].
Другой блок вопросов связан с проблематикой сознательного нарушения постулатов в языковом выражении, прибегая к косвенным речевым актам, метафорическим высказываниям и высказываниям иронического характера. Так, слушаю- щему, когда он воспринимает актуальное метафорическое высказывание, нужно знать не только свой язык, но и быть в курсе того, в каких условиях высказывание произносилось; владеть общими с говорящим фоновыми представлениями [12, с. 111]. Намеренное либо ненамеренное игнорирование постулатов речевого поведения заставляет адресата прибегать к процедуре интерпретации, декодируя первоначальное намерение, вычисляя скрытый смысл, т. е. импликатуру. Кроме того, процесс соблюдения/игнорирования максим обли-гаторен в определенных типах дискурса, например, манипулятивного, в котором нарушение ряда принципов согласуется с понятием аттрактивности и запланированной направленности речевого поведения для достижения перлокуции [10].
И.М. Кобозева считает, что понятие интенциональности не получило общепринятого лингвистического содержания. В основе языковых явлений, которые ранее определялись в терминах модуса, субъективной и объективной модальности, пресуппозиции, условий успешности речевого акта, исходного предположения, оценочной коннотации, по мнению автора, находятся интенциональные состояния сознания говорящего. Автором также выделяется понятие «интенционального компонента смысла высказывания», под которым понимается «информация обо всех интенциональных состояниях сознания говорящего, прямо или косвенно, эксплицитно или имплицитно закодированных в его языковой структуре» [9, с. 2].
Обращение к интенциональности по отношению к грамматическим категориям подразумевает связь семантических функций грамматических форм с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности. Можно отметить ряд исследований, в которых анализу подвергались отдельные средства выражения интенциональности. Например, системнофункциональное описание интенциональных глаголов (Н.Н. Казыдуб); анализ глаголов волеизъявления (И.Г. Жирова); выявление семантического поля глаголов, выражающих волеизъявление и определение функционально-семантического поля волеизъявления (Т.Н. Распопова, Г.А. Серебрякова); работы, в которых рассматривались семантикосинтаксические свойства конструкции «N + is going + инфинитив» (Р.И. Цыба), а также семантикосинтаксическая структура конструкций с глаголами желания и семантико-синтаксический анализ представленных конструкций без учета прагматического аспекта (О.Г. Ягодникова, Ф.Х. Ниссен); речеактовые свойства базисных волитивных конструкций английского языка (Г.В. Гунченко) и другие.
Поскольку интенциональность представляется как понятийная антропологическая категория, то семантика намерения вербализуется разнопорядковыми языковыми единицами:
-
– лексическими (собственно интенциональ ные глаголы; глаголы, обозначающие решение
выполнить действие; глаголы, обозначающие предварительную подготовку к осуществлению действия; глаголы желания совершить действие; глаголы попытки) [8, с. 60];
-
– морфологическими (глагольные формы с импликацией намерения – to be going + Infinitive/ to be willing + to + Infinitive/ to be + Ving; категориальные формы Present Indefinite и Future Indefinite с импликацией намерения);
-
– синтаксическими (инфинитивные конструкции со значением намерения – to + Infinitive/ in order + to Infinitive/ for + Object + to + Infinitive/ so as (so's) + to Infinitive/as if (as though) + to Infinitive; придаточные предложения обстоятельства цели – so that + clause/ in order that + clause/ lest + clause/ so as + clause/ so + clause; предложно-именные сочетания с импликацией намерения – for + Gerund (for the sake of/for the purpose of+ Gerund)/ to, for + noun (for the sake of + noun) [6, с. 94].
Согласно словарю П. Роже, речевое намерение выражается следующими глаголами – «intend, take upon oneself, take into one's head, meditate, contemplate, premeditate, envision, think of, dream of, aspire, project, plan, design, plot, have a mind, feel like, be about, make an effort, be on the point of, be on the verge of, make up one's mind, set one's mind on smth., mean, propose, purport, aim, decide, determine, rule, settle, tend, resolve, expect, purpose, scheme, devise, contrive, try, attempt, essay, endeavour, strive, struggle, exert, arrange, be prepared, be ready, want, wish, wish for, desire, covet, hanker, hunger, thirst, itch, spoil, long for, hope for, yearn for, pine for, fancy, crave and other ones» [27].
Однако представленные выше глагольные формы обладают различными коннотациями, что дает возможность выделить группы глаголов, обозначающие:
-
* намерение осуществить действие (intend, mean, propose, purpose, purport, aim, tend, think, be about to do smth., be on the point of, be on the verge of, have a mind to do smth., have half a mind to do smth.) ;
-
* сформированное решение осуществить действие (decide, resolve, determine, rule, settle, make up one's mind, take upon oneself, take into one's head, set one's mind on smth. be ready) ;
-
* предварительную подготовку к осуществлению действия (arrange, plan, plot, prepare, project, design, meditate, contemplate, premeditate, envision, scheme, devise, contrive, think of) ;
-
* желание совершить действие (desire, want, yearn, wish, covet, crave, hanker, long, pine, hunger, thirst, dream of, hope, fancy, itch, spoil, feel like, aspire) и попытки (attempt, endeavour, try, essay, struggle, strive, exert, make an effort) [6, с. 95 - 96].
Отметим, что переработанная и дополненная версия тезауруса П. Роже содержит и другие единицы языка, кроме глагольных форм, которые обладают интенциональностью, т. е. существительные (intent, intentionality; purpose; predetermination; de- sign, ambition), прилагательные (intentional, advised, express, determinate; prepense; disposed, inclined, minded; bent upon) и наречия (advisedly, wittingly, knowingly, designedly, purposely, on purpose, by design, studiously, pointedly; with intent) [27].
К анализу грамматического аспекта исследуемого феномена обращается в своих работах и А.Н. Бондарко, акцентируя внимание на семантических функциях грамматических категорий глагола, основываясь на функционировании глагольных форм в высказывании. Примером проявления интенциональности, по мнению автора, может служить смысловая актуализация временной семантики в высказываниях, включающих соотношения форм времени. Интересна и следующая парадигма – интенциональность/неинтенциональность. Интенциональности, полагает А.Н. Бондарко, противостоит неинтенциональность, так как данное свойство характеризует функции, которые не участвуют в реализации намерений говорящего и не являются актуальными элементами смысла высказывания. Примером неинтенциональной функции может служить выражение отнесенности действия к лицу мужского или женского пола, где употребление форм определенного рода, которые указывают на пол лица-субъекта, обусловлено грамматической необходимостью. Другими словами, говорящий употребляет глагольные формы с показателями рода не потому, что он хочет передать смысл «субъект действия – лицо мужского (женского) пола», а потому, что он не может не выразить отношение к полу, связанное с облигаторностью категории рода в данном классе форм [2, с. 29]. Однако «неинтенциональная» функция, основанная на соотнесенности действия к лицу определенного пола, не является универсальной из-за отсутствия внутриязыковых правил в ряде языков. К примеру, в английском языке. Так, автором высказывания в коммерческой рекламе «Birkbeck University of London» («I wouldn’t have got my current job without this degree – not without Birkbeck» – «Я бы не полу-чил(а) моей работы без этой квалификации…») и социальной рекламе «Keep a Child Alive» («I am American. Help us stop the dying. Pay for lifesaving aids drugs that can keep a child, a mother, a father, a family alive. Visit keepachildalive.org to help» – «Я – американец (американка)…..») может выступать лицо любого пола в зависимости от целевой аудитории и прагматических целей высказывания [10].
Функциональный подход не предполагает обращения к понятиям локутивного, иллокутивного, перлокутивного актов как в теории речевых актов. Акцентируется внимание не столько на коммуникативных целях высказывания, сколько на семантических функциях грамматических форм в их отношении к смысловому содержанию высказывания; «исследуются (с особой точки зрения – по отношению к признаку интенциональности) функциональные потенции конкретных грамматических форм (форм вида, времени, наклонения, лица, залога, числа, падежа и т. п.) и реализации этих потенций в высказывании» [2, с. 30]. Интенциональность в предлагаемой интерпретации включает два аспекта: 1) аспект смысловой информативности (актуальности) – имеется в виду способность данной функции быть элементом выражаемого смысла; 2) аспект собственно интенциональный – связь с намерениями говорящего в акте речи, с коммуникативной целью, с целенаправленной деятельностью говорящего. Указанные аспекты интенциональности тесно связаны, т. е. смысловая информативность грамматического значения является необходимым условием его использования в речи для реализации намерений говорящего.
Разделяем точку зрения многочисленных исследователей в том, что новые акценты, поставленные в современной лингвистической парадигме, позволяют переосмыслить суть, природу, функции языка, речи и речевой деятельности, выйти за грани сугубо рационального подхода к языку как объекту лингвистического исследования. В этой связи функциональный подход обогащается изысканиями, которые направлены на выявление причин языковой и речевой вариативности и расширение номенклатуры средств передачи информации; стратификации языковых единиц согласно их роли в процессе коммуникации и т. д. Текст массмедиа в качестве материала нашего исследования предопределил выбор тактик и подходов к исследованию интенциональности речевого поведения, т. е. необходимости обращения к комплексному подходу в процессе анализа медийного дискурса, который мы рассматриваем в качестве семиотически осложненного образования, что требует описания комплексов аттракторов, усиливающих речевое намерение, с целью достижения запланированного перлокутивного эффекта.
Онтология интенциональности представлена следующей последовательностью: мотив/желание – намерение/решение – попытка/результат. Однако в деятельностной реализации приведенная последовательность может быть нарушена в силу разных причин на любом сегменте. Отсюда делается заключение об имеющихся разноуровневых средствах выражения интенциональности, причем выбор средств «обусловлен личностными качествами говорящего, стоящими перед ним целями и задачам и поставлен в прямую зависимость от субъекта речи» [14, с. 167].
Наши научные изыскания осуществляются в рамках полимодусного подхода, что подразумевает учет различных способов передачи информации, которые сопровождают речевой акт. Мы исходим из понимания полимодусности как более обширного явления, нежели соотношение вербального и невербального компонентов. Полагаем, что анализ с точки зрения подимодусности предполагает рассмотрение всех языковых уровней, поскольку каждый уровень обладает номенклату- рой средств, которые несут определенную экспрессию, выразительность, соответствующую смысловую и интенциональную нагрузку. Обращение к предлагаемому подходу в ходе изучения интенциональности речевого поведения на материале медийного дискурса может разрешить вопросы, выявленные при анализе корпуса примеров:
-
1) сложность сегментации речевого высказывания на единицы, которые соответствуют речевым актам; речевые акты не всегда определимы на уровне отдельных высказываний; функции речевых действий могут реализоваться в более мел-ких/крупных сегментах дискурса;
-
2) множественность функций одного высказывания;
-
3) ограниченность трактовки контекста в теории речевых актов, т. е. для определения иллокутивной цели высказывания и типа речевого акта иногда требуется привлечение дополнительных сведений, например, знаний социальных и культурных правил языкового поведения коммуникантов, отношения коммуникантов в микро- и макросоци-альном контексте, т. е. аппарат социолингвистики, отслеживающий социокультурную вариативность языковых конвенций [11].
Характер речевого общения определяется прагматическими параметрами коммуникативной ситуации, включающими в себя пространственновременные характеристики общения, индивидуальные характеристики участников коммуникации (социальный статус, роль, пол, возраст, жизненный опыт, образование, психологические характеристики коммуникантов и т. д.), специфику жанра и другие. Кроме того, в каждом случае общения коммуниканты имеют свою установку и свои тактики реагирования. Очевидно, что наряду с интенцией говорящего немаловажное значение имеет и интенция адресата, так как акт коммуникации – это результат взаимодействия интенций всех участников речевого общения.
Прагматический потенциал интенциональных высказываний имеет широкий диапазон; его иллокутивная сила выявляется в конкретном контексте и имеет многофакторную основу. Тенденция к рассмотрению интенциональности в качестве центрального базового понятия приобретает особое значение и в рамках анализа дискурса. В числе последних разработок в рамках данного направления – методика интент-анализа для выявления интенциональной направленности текста, что предполагает анализ авторских дескрипторов [13].
Анализ показывает, что понятие интенции применимо и к отдельному высказыванию, и к тексту (интенциональный анализ текста). Принимая во внимание текстообразующую функцию интенции, считаем возможным классифицировать тексты по преобладающей интенции, по определенно-сти/неопределенности, выраженности/сокрытости интенции (например, генеральная интенция текста рекламного характера – директивная, т. е. за- ставить адресата предпринять определенные действия). Однако любой текст, в том числе и медийный, характеризуется полиинтенциональностью, соответственно, реализация преобладающей интенции сопровождается пошаговыми интенциями.
Таким образом, в нашем исследовании мы исходим из следующего определения, а именно: интенциональность является основополагающей стороной речевого механизма и продуцируемой им речи. В свою очередь, коммуникативная интенция представляет конкретную цель высказывания, отражающую потребности и мотивы говорящего, мотивирует речевой акт, лежит в его основе, воплощается в интенциональном смысле, который имеет разнообразные способы языкового выражения в высказываниях.
Список литературы Речевая деятельность: интенция и интенциональность
- Арутюнова, Н.Д. Истоки, проблемы и категории прагматики / Н.Д. Арутюнова / Новое в зарубежной лингвистике. - 1985. - Вып. 16. -С. 28-29.
- Бондарко, А.В. К проблеме интенциональности в языке / А.В. Бондарко / Вопросы языкознания. - 1994. - № 2. - С. 29-43.
- Брентано, Ф. О происхождении нравственного познания / Ф. Брентано. - СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ, 2000. - 186 с.
- Грайс, Г.П. Логика и речевое общение / Г.П. Грайс / Новое в зарубежной лингвистике. -1985. - Вып. 16. - С. 217 - 237.
- Гуссерль, Э. Картезианские размышления / Э. Гуссерль. -М.: АСТ, 2000. - 752 с.
- Заюкаева, Е.В. Функционально-семантическое поле интенциональности / Е.В. Заюкаева / Проблемы межкультурной коммуникации в теории языка и лингводидактике. - Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2003. - С. 94-96.
- Звегинцев, В. А. Предложение и его отношение к языку и речи /В. А. Звегинцев. - М.: Изд-во Московского университета, 1976. - 309 с.
- Казыдуб, Н.Н. Интенциональные глаголы / Н.Н. Казыдуб / Системный анализ простого и сложного предложения в синхронии и диахронии. -Л.: ЛГУ, 1991. - С. 60-69.
- Кобозева, И. М. К распознаванию интен-ционального компонента смысла высказывания (теоретические предпосылки) / И.М. Кобозева / Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. -М.: Наука, 2003. - С. 267-271.
- Мощева, С.В. Речевой акт как способ реализации коммуникативной интенции (на материале англоязычного политического дискурса) / С.В. Мощева // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. -2012. - Т. 18, № 5. - С. 76-79.
- Мощева, С. В. Аллокутивная интенция: способы графической аттракции / С.В. Мощева / Известия высших учебных заведений. - 2013. -Т. 4, № 1. - С. 46-50.
- Сусов, И. П. Лингвистическая прагматика / И.П. Сусов. - М.: Восток-Запад, 2006. - С. 111-126.
- Ушакова, Т. Н. Интент-анализ политических текстов / Т.Н. Ушакова / Психологический журнал. - 1998. - № 4. - С. 98-109.
- Austin, J. How to do things with words / J. Austin. - London: Claredon Press, 1962. - 166p.
- Bierwisch, M. Wörtliche Bedeutung - Eine Pragmatische Gretchenfrage / M. Bierwisch // Untersuchungen zum Verhältnis von Grammatik und Kommunikation. - LSt (A), 1979. - S. 48-80.
- Dijk, van T.A. Studies in the Pragmatics of Discourse / T.A. van Dijk. - The Hague etc.: Mouton, 1981. - 331 p.
- Farmini, L. La teoria della lingua: Fra stori-cismo e nuovi orientamenti: Studi linguistici generali ed applicati / L. Farmini. - Manfredonia (Italia): Atlantica Editrice, 1981. - P. 50-54.
- Habermas, J. Universalpragmatische Hinweise auf das System der Ich-Abgrenzungen / J. Habermas / Seminar: Kommunikation, Interaktion, Identität. - F. M.: Suhrkamp, 1983. - P. 332-347.
- Halliday, M. Language structure and language function / M. Halliday / New horizons in linguistics. - Harmondsworth: Penguin, 1970. - P. 140165.
- Isenberg, H. Einige Grundbegriffe für eine linguistische Texttheorie / H. Isenberg // F. Danes, D. Viehweger eds. Probleme der Textgrammatik. - B.: Akademie, 1976. - S. 47-145.
- Lang, E. Können Satzadverbiale performativ gebraucht werden? / E. Lang, R. Steinitz // W. Motsch ed. Kontexte der Grammatiktheorie. - В.: Akademie, 1978. - P. 51-80.
- Leech, G.N. Principals of pragmatics / G.N. Leech. - London, New York, 1983. - 250 p.
- Martin, R. Pour une logique du sens / R. Martin - P.: PUF, 1983. - 226p.
- Morgan, J.L. Some Remarks on the Nature of Sentences / J. L. Morgan // R. E. Grossman ed. Papers from the Parasession on Functionalism. - Chicago (Illinois): CLS, 1975. - P. 433-449.
- Power, R.J. The Organization of Purposeful Dialogues / R. J. Power // Linguistics. - 1979. -Vol. 17. - P. 107-152.
- Richards, J.C. Conversational Analysis / J.C. Richards, R.W. Schmidt // Languages and communication. - L.; N.Y.: Longman, 1983. - P. 117-154.
- Roget's international thesaurus of English words and phrases. Ed. Ch. Mawson. New York: Bar-tleby.com, 2000. - http: //www.bartleby.com/110/ (дата обращения: 14.12.2021).
- Searle, J. Mind, language and society (Philosophy in the real world) / J. Searle. - New York: Basic Books, 1998. - 196p.
- Vanderveken, D. Illocutinary Logic and Self-defeating Speech Acts / D. Vanderveken / Speech Act Theory and Pragmatic. - 1980. - P. 247-273.
- Wright, R. A. Meaning and Conversational Implicature / R.A. Wright, P. Cole, J.L. Morgan / Speech acts. - N.Y. etc.: Acad. Press, 1975. - P. 363382.
- Wunderlich, D. Methodological Remarks on Speech act Theory / D. Wunderlich / Speech Act Theory and Pragmatics. - Dordrecht, Boston, London: Reidel, 1980. - P. 291-312.
- Zwicky, A.M. Ambiguity Tests and How to Fail Them / A.M. Zwicky, J. Sadock / Syntax and semantics. - N.Y.; L.: Acad. Press, 1975. - Vol. 4. -P. 1-36.