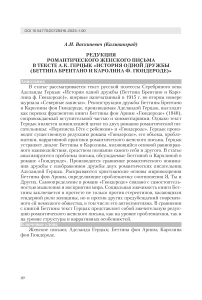Редукция романтического женского письма в тексте А.К. Герцык "История одной дружбы (Беттина Брентано и Каролина Ф. Гюндероде)"
Автор: Васкиневич Анжелика Игоревна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается текст русской поэтессы Серебряного века Аделаиды Герцык «История одной дружбы (Беттина Брентано и Каролина ф. Гюндероде)», впервые напечатанный в 1915 г. во втором номере журнала «Северные записки». Реконструкция дружбы Беттины Брентано и Каролины фон Гюндероде, производимая Аделаидой Герцык, выглядит как перевод фрагментов книги Беттины фон Арним «Гюндероде» (1840), сопровождаемый вступительной частью и комментариями. Однако текст Герцык является компиляцией цитат из двух романов романтической писательницы: «Переписка Гёте с ребенком» и «Гюндероде». Герцык производит существенную редукцию романа «Гюндероде», его объема, проблематики, нарративной практики романтического женского письма. Герцык устраняет диалог Беттины и Каролины, являющийся основой равноправного взаимодействия, средством познания самого себя и другого. В статье анализируются проблемы письма, обсуждаемые Беттиной и Каролиной в романе «Гюндероде». Производится сравнение романтического понимания дружбы с изображением дружбы двух романтических писательниц Аделаидой Герцык. Раскрываются христианские основы мировоззрения Беттины фон Арним, определяющие проблематику соотношения Я, Ты и Других. Самоопределение в романе «Гюндероде» связано с самостоятельностью мышления и восприятия мира. Социальная значимость книги Беттины заключается в протесте не только против стереотипов, касающихся гендерной роли женщины, но и против других предубеждений современного ей немецкого общества, в том числе его антисемитизма. В сравнении с книгой Беттины текст Герцык представляет собой значительную редукцию романтического женского письма, как на уровне проблематики, так и на уровне структуры и нарративных особенностей.
Женское письмо, аделаида герцык, беттина фон арним, каролина фон гюндероде
Короткий адрес: https://sciup.org/149142521
IDR: 149142521 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-90
Текст научной статьи Редукция романтического женского письма в тексте А.К. Герцык "История одной дружбы (Беттина Брентано и Каролина Ф. Гюндероде)"
Women’s writing; Adelaida Gertsyk; Bettina von Arnim; Karoline von Günderrode.
«История одной дружбы (Беттина Брентано и Каролина ф. Гюндеро-де)» – такое наименование русская поэтесса Серебряного века Аделаида Казимировна Герцык дала своему тексту, напечатанному в 1915 г. во втором номере журнала «Северные записки». Женщина, рассказывающая о дружбе двух других женщин, представительниц романтической эпохи, писательницы Беттины фон Арним (1785–1859), урожденной Брентано, и поэтессы Каролины фон Гюндероде (1780–1806) – исходная гендерная констелляция потенциально содержит в себе возможности развития женского письма, его саморефлексию, основанную на временной дистанции. Однако такие читательские ожидания оказываются необоснованными, текст Герцык, напротив, представляет собой пример редукции женского романтического самосознания, воплотившегося в нарративной практике эпистолярной прозы.
На первый взгляд реконструкция дружбы, производимая Герцык, выглядит как перевод фрагментов книги Беттины фон Арним «Гюндероде» (1840), сопровождаемый вступительной частью и комментариями. Обычно текст Герцык так и характеризуется в литературоведческих исследованиях, как «перевод с предисловием и примечаниями» [Боровикова 2011, 60]. В новейшем издании сочинений Аделаиды Герцык подобная характеристика сохраняется: «Эссе представляет собой перевод писем Беттины Брентано к Каролине фон Гюндероде, снабженный вступительной статьей и комментариями Аделаиды Герцык» [Герцык 2022, 123]. При сопоставлении с текстами самой Беттины становится очевидно, что первая, эссеисти-ческая часть сочинения Герцык насыщена цитатами из более ранней книги романтической писательницы «Переписка Гёте с ребенком» (1835), а во второй части даются не переводы целостных фрагментов, а нарезка цитат из книги «Гюндероде». Такой подход, вероятно, воспроизводит практику Беттины, вольно обращавшейся с текстами писем при их художественной обработке [Древиц 1991, 189]. Однако Герцык производит не просто существенную редукцию романа «Гюндероде» в смысле его объема, не только композиционно объединяет его с более ранним романом «Переписка Гёте с ребенком», но и значительно смещает смысловые акценты, влияя на восприятие русским читателем образов Беттины фон Арним и Каролины Гюндероде. Помимо этого, Герцык меняет и сам характер женского письма романтической эпохи.
В книге «Гюндероде» приведена переписка Беттины и Каролины. Их дружба раскрывается в диалоге, они делятся чувствами, мыслями, переживаниями. А Герцык устраняет саму Гюндероде из книги Беттины: «Мы приводим одни лишь письма Беттины, – из них ярче выступает облик подруги и характер их отношений, чем в сжатых, всегда кратких и сдержанных письмах самой Гюндероде» [Герцык 2022, 111]. Стиль Гюндероде не соответствует представлениям Герцык о женском письме, поэтому она не дает высказаться Каролине, лишая ее права голоса, из действующего и проявляющего себя в речи субъекта превращая ее лишь в объект описания. Таким образом, и дружба замещается односторонним восхищением и последующим разочарованием Беттины, в то время как Гюндероде отводится пассивная роль. В книге «Гюндероде» Каролина, напротив, в письмах занимает активную позицию старшей наставницы, кроме того, именно она на момент дружбы с Беттиной воплощала и творческую роль, состоявшись как поэтесса, ее произведения занимают в романе важное место, Герцык цитирует лишь один небольшой фрагмент из стихотворения «Дартула».
Герцык монологизирует диалог, конструируя ситуацию конкуренции, соперничества, в котором побеждает Беттина, пишущая «ярче». Таким образом, происходит «устранение» Гюндероде и «присвоение» Беттины, через насильственное разрушение авторской интенции.
Ульрике Ландфестер и Карола Хильмес указывают на важность диалогизма во всех эпистолярных романах Беттины фон Арним [Landfester
2000, 246; Hilmes 1996]. Можно считать спорными представления феминистской критики о том, что монолог – мужской язык, диалог – женский [Барышева 2016, 55], достаточно вспомнить диалоги греческих философов, скорее можно предположить, что женское письмо (как и мужское) часто прибегает к диалогу как к языку равноправного общения, адекватному средству познания себя, другого, мира, истины. Элисон Стоун считает принцип диалога в книге «Гюндероде» воплощением женского варианта романтической модели совместного философствования (Symphilosophie) [Stone 2021].
Значимость высказывания, диалога подчеркивала сама Беттина в своем романе «Гюндероде». Герцык приводит фрагмент из письма Беттины: «Кого Бог любит, с тем Он ведет беседы, полные любви; ведь всякая беседа есть проявление любви» [Герцык 2022, 120]. Не приводит она другое место, где Беттина декларирует право на собственное слово: «Мне кажется, ты снова боишься за меня, как год назад! Но ты ведь знаешь, что это ерунда, я не безумствую, в чем другие меня обвиняют и затыкают мне рот, когда я хочу говорить (здесь и далее курсив мой. – А.В.). Не будь глупа, не дай филистерам, отказывающим мне в рассудительности, заставить тебя бояться за мое здоровье; кто скажет брату своему “безумный”, приговаривается к смерти, они невиновны, я им не брат, ты мой брат <…> что тебе с меня, если я не научусь отдавать тебе свою душу, обнаженную и неприкрытую. Дружба! Это общение духов, обнаженных и неприкрытых» (здесь и далее перевод не включенных Герцык фрагментов писем мой. – А.В.) [Arnim 1998, 145]. Беттина протестует здесь против тех, кто пытается лишить ее права высказывания и приводит несколько видоизмененную цитату из Евангелия от Матфея, слова, которые Христос говорит после заповедей блаженства: «кто же скажет брату своему “ракá”, подлежит синедриону, а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной» (Мф. 5: 22). В безумии и легкомыслии часто обвиняли Беттину, о чем она неоднократно упоминает в письмах к Каролине. И она отстаивает свою ценность, свою целостность, отстаивает себя как творение Божие. Для того, чтобы добиться этого признания, необходимо высказывание. Но наиболее органично высказывание порождается тогда, когда оно предполагает понимание. «Ни перед кем я не могу так говорить, как перед тобой», – пишет Беттина Каролине, – «только с тобой я чувствую к этому желание и огонь, и когда я говорю с тобой, то чувствую, как нечто пробуждается во мне, словно душа моя растет <…>, ты волшебным образом извлекаешь из меня мысли, которые я до того не осознавала» [Arnim 1998, 95]. Мысли рождаются в разговоре, диалог становится средством познания самого себя и познания другого, собеседника.
Тем не менее, письмо как адекватная форма выражения ставится под сомнение как Беттиной, так и Каролиной. Парадоксальным образом происходит это внутри самого письма. В книге «Гюндероде» приводится письмо, посланное Беттиной отцу в детстве: поскольку обеими руками она обнимает папу, ей нечем писать [Arnim 1998, 135]. Герцык приводит другой фрагмент, связанный с братом Беттины, писателем Клеменсом Брентано: «Клеменс говорит, что надо создать себе цельное свободное будущее, и что лучше всего оно раскрывается из книги… Книга – толстая, и в ней столько пустых страниц, – их все надо заполнить… Откуда же взять все это? Вот уже первые цепи, стесняющие мою свободу! <…> На воле мысль трепещет так радостно, на бумаге же она неподвижна, как наколотая на булавку» [Герцык 2022, 121]. Схожие воззрения встречаются и в письмах Каролины. Высказывание, закрепленное в письме, представляет для нее уже отжившую жизнь: «Даже самые правдивые письма, с моей точки зрения, лишь трупы, они обозначают бывшую в них жизнь, и хотя они похожи на живых, но момент их жизни уже прошел, поэтому мне кажется, когда я читаю написанное какое-то время назад, что я словно лежу в гробу, и оба моих Я удивленно взирают друг на друга» [Arnim 1998, 363–364].
Один из фрагментов, приводимых Герцык, затрагивает проблему соотношения Я, Ты и Других: «Мне кажется, что вся жизнь человеческая сводится к жажде ощутить, воплотить, проявить себя в другом. До встречи с тобой я ничего не знала, я слышала слова: дружба, друг, но никогда не думала, что в этом целый новый мир. Когда кто-нибудь становится дорог, надо сосредоточиться, собрать все силы души, чтобы понять его, надо забыть себя совсем и погрузиться в созерцание. Мне кажется, что самого замкнутого человека можно понять из одной его внешней оболочки, если любовно всматриваться в него. Тебя я сразу восприняла, как музыку, и притом близкую, вечную, давно слышанную. Ты такая задумчивая, рассеянная с другими, – я не знаю, почему. Ты как будто спишь среди жизни. Я знаю, что ты наяву не могла бы быть такой тихой и покорной с людьми, – тебя смутили бы и испугали их безобразные лица. Я помню, я видела раз во сне, что все люди – отвратительные маски, и пробуждаясь, крепко сжимала веки из страха увидеть это наяву, когда открою глаза. И ты также закрываешь в жизни глаза из великодушия, не хочешь видеть, какие люди, не хочешь, чтоб в тебе поднялось отвращение к ним, к ближним. Ты хочешь остаться близкой им, и стоишь среди них дремлющей, мечтающей и улыбаешься во сне, и все вокруг представляется тебе несущейся мимо пляской призраков. Со мной ты бываешь как будто пробужденнее, явственнее, – ты как бы открываешь глаза и решаешься смотреть на меня прямо» [Герцык 2022, 116].
Здесь затрагивается целый ряд важных моментов: дружба как встреча с Другим, становящимся Другом, встреча, меняющая жизнь, придающая ей новое качество и глубину; дружба как пробуждение, как прямой, честный, ясный взгляд на Другого. Этому отношению противостоит отношение к другим как к маскам, призракам при одновременном понимании того, что это не христианское отношение, что подчеркивается нежеланием испытать отвращение, расчеловечивающее Другого.
Фрагмент, приводимый Герцык, кажется органичным, но это нарезка цитат из письма Беттины. В ее письме есть и другие нюансы. Это 1) обращение к Богу, становящемуся одним из участников беседы, 2) преображение отношения и к другим людям после встречи с Другом: «я смотрела на каждое лицо как на загадку», 3) размышление о том, что человек выражает свое Бытие, если всмотреться в него, не примешивая к его сущности своего воображения, и том, что желание понравиться приводит к тому, что человек выражает уже не свое Бытие, а только видимость, кажимость (не Sein, а Schein).
Что касается дальнейшего рассуждения об отношении к другим людям, в письме Беттины тоже есть интересные нюансы. В переводе Герцык: «И ты <…> не хочешь, чтоб в тебе поднялось отвращение к ним, к ближним. Ты хочешь остаться близкой им» [Герцык 2002, 116], в письме самой Беттины: «Ты не хочешь, чтоб в тебе поднялось отвращение к тем, кто не является твоими братьями, ведь абсурдное – это не сестра и не брат, но ты хочешь быть им сестрой» [Arnim 1998, 100]. Отвращение, вызываемое ощущением абсурдности Бытия этих Других – это почти экзистенциалистское отношение, Беттина оперирует этими категориями задолго до Камю и Сартра, проблематизируя такое отношение к миру и Другому, противопоставляя им отношение христианское.
Беттина исходит из возможности познания другого человека посредством самоограничения и пристального всматривания в него. Иначе – Каролина, чьи письма Герцык опускает и в которых ставится под сомнение возможность целостного познания другого человека. Из письма Каролины Беттине: «Я знаю немногих людей, и, наверно, никого не знаю совершенно точно, ведь я совсем не умею наблюдать за другими. Если я понимаю в ком-то один момент, я не могу делать по нему выводы обо всем остальном» [Arnim 1998, 364]. И в другом месте: «мне всегда <…> казалось, что невозможно поэтически изобразить целостного человека, выдумывают всё время лишь какую-то одну сторону, сложность человеческого бытия остается непостижимой» [Arnim 1998, 293].
Мы видим, что и в этом вопросе между подругами ведется диалог, раскрывающий разные грани их восприятия одной проблемы.
Еще один важный аспект дружбы, затрагивающийся в переписке Каролины и Беттины: забота о самом человеке, понимаемая как стремление к тому, чтобы он смог постичь, раскрыть и реализовать самого себя. Ланд-фестер определяет такой подход как «совместную этическую заботу о себе (Selbstsorge) в диалоге» [Landfester 2000, 88]. Каролина пишет Беттине: «Но прошу тебя настоятельно, <…> позаботься о том, чтобы оставаться самой собой» [Arnim 1998, 333]. Она упрекает Беттину в том, что та «отвергает любящего». «Разве это не грех?», – спрашивает Каролина и уточняет: «Я имею в виду не себя, не Клеменса, беспокоящегося о тебе (имеется в виду брат Беттины, писатель Клеменс Брентано. – А.В.), а твой собственный дух» [Arnim 1998, 117]. Не дать раскрыться в себе своему собственному духу – это прегрешение против самой себя, как видит его Каролина.
Здесь снова важен христианский смысл и его интерпретация. Христианская заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» понимается в том числе как стремление к тому, чтобы этот ближний познал самого себя и обрел тот свой образ, в котором проявляется дух, который является образом Божиим.
Вторая часть книги Беттины начинается с эпиграфа: «Если тебя посетило высокое представление о природе человека, не сомневайся, что оно истинно, ведь все рождены, чтоб воплотить идеал, и там, где ты предчувствуешь его, там ты можешь и явить его, ведь в нем есть для этого все основания.
Кто отрицает в себе идеал, тот не сможет разглядеть его в других, даже если он будет явлен в совершенстве. Кто распознает его в других, для того он раскрывается, даже если сам человек его в себе не предполагает» [Arnim 1998, 257].
Любить ближнего как самого себя – это значит видеть образ Божий и в себе, и в другом человеке. Беттина вспоминает и о другой части христианской заповеди – о любви к Богу. В одном из писем Каролине она пишет: «Единственная цель всякой жизни – научиться понимать Бога» [Arnim 1998, 272].
Все это Герцык оставляет вне поля зрения. Но она приводит слова Беттины из письма Каролине, касающиеся понимания самоубийства как отказа от любви, именно в этом, в отказе от отдающей любви, видя его греховность: «Я хочу, как бабушка, охватить своей жизнью целое столетие, а не так, как ты, умереть молодой… Много узнать, многому научиться, говоришь ты, – и рано умереть… Зачем ты говоришь так? Ведь на каждом шагу тебе встречается кто-нибудь в жизни, кому ты нужна. Или ты хочешь отпустить от себя голодным того, кого можешь одарить? Нет, ты не можешь хотеть этого!» [Герцык 2022, 122].
Дружба Беттины и Каролины распалась под влиянием Фридриха Кройцера, из-за несчастной любви к которому Гюндероде затем покончила с жизнью. Каролина первой отвернулась от Беттины, но знаком окончания дружбы явилась просьба Беттины вернуть ей ее письма [Bäumer, Schultz 1995, 28], что Гюндероде и сделала. Разрушение дружбы и прекращение диалога оказываются взаимосвязанными явлениями. Воскрешение этой дружбы в памяти – публикация литературно обработанной переписки. Книга о Гюндероде – литературный памятник ей, желание привлечь публику к ее творчеству [Bäumer, Schultz 1995, 31–32]. Но это не только памятник Гюндероде, не только эпистолярный роман о дружбе двух женщин. Это и литературная саморепрезентация Беттины, и диалог с читателем. Книга Беттины «Гюндероде» написана в зрелые годы и посвящена студентам: «Вам, словно золотые цветы снова прорастающим на затоптанном поле. [...] Вам, ошибающимся, ищущим» [Arnim 1998, 25]. Это книга о познании и обретении себя, другого, Бога и мира, обращенная к молодому поколению.
Герцык редуцирует романтическое понимание дружбы. Ее текст начинается с изображения Беттины, прибежавшей в слезах жаловаться матери Гёте на «неверную, жестокую подругу» [Герцык 2022, 107]. Эта тривиальная сцена восходит к другому роману Беттины, «Переписка Гёте с ребенком», как и сцена с кинжалом. В центре оказываются чувства Беттины, помимо этого происходит перенос внимания с фигуры Гюндероде на фигуру Гёте и его матери. У Беттины наоборот – в книге о Гёте она говорит о Гюндероде, подчеркивая ее значение в своей жизни. При этом там Беттина занимает роль ребенка, в том числе и обиженного ребенка, отверженного старшей подругой. В книге «Гюндероде», подобные сцены отсутствуют, ее нарративная стратегия иная, это репрезентация самопознания, освобождения от навязываемых обществом стереотипов, духовного взросления, становления женщины, человека, писательницы.
Герцык как во вступительной части, так и в избранных для перевода фрагментах изображает Беттину, в основном воспроизводя стереотипные, клишированные представления о женщине, выбирая из текстов двух романов места, иллюстрирующие такие качества как женская обидчивость, экзальтированность, женская верность / неверность, страстная привязанность, близость природе и т.п. Нельзя сказать, что в романах Беттины этого нет, но образ женского Я не сводится к этим чертам.
Самоопределение в романе «Гюндероде» связано с самостоятельностью мышления и восприятия мира. Беттина пишет Каролине: «Самостоятельное мышление – высшая смелость. Большинство людей не мыслят самостоятельно, это значит, что они не дают себя учить притчам божественного духа. <…> Кто отваживается самостоятельно думать, тот будет и самостоятельно действовать <…> ориентироваться на других не значит действовать, действовать – значит обладать самостоятельным бытием, то есть жить в Боге» [Arnim 1998, 346]. Самостоятельность мышления – это отказ от шаблонов мышления. Беттина пишет Каролине о своих братьях, Клеменсе и Кристиане. Их мужские голоса представляют собой обвинения и увещевания. Обвинения в легкомыслии и насилие культурой представляют собой с точки зрения Беттины штампы мышления, противопоставляющиеся живой жизни. Кристиан говорит ей, что, если она хочет поехать в Италию, ей нужно изучить историю искусств Винкельмана и выучить итальянский язык. Беттина недоумевает: «Эй, дай увидеть все своими глазами, когда я, опьяненная блаженством оттого, что там другие деревья, другие цветы и плоды, и более прекрасное небо, встречу на улице людей, мальчиков, юношей, более близких мне по крови, <…> разве захочу я хоть что-то знать про Винкельмана и древнюю историю?» [Arnim 1998, 319]. Непосредственное переживание жизни, жажда красоты противопоставляются ненужному умствованию, шаблонному восприятию, навязываемому в качестве образца.
Непосредственность восприятия заново ставит проблему письма. Объясняя, почему она не пишет в смысле литературного творчества (Dichten), к чему ее призывает Клеменс, Беттина утверждает, что она воспринимает божественный свет не через посредство языка, поэзии, а непосредственно [Arnim 1998, 319–320]. Каролина видит здесь различие между подругой и собой: «Я ищу в поэзии как в зеркале возможности собрать себя, увидеть саму себя и через саму себя пройти в вышний мир» [Arnim 1998, 329–330].
Там же речь заходит о философии, которую тоже отвергает Беттина. Каролина отвечает ей: «Если твоя органическая природа всецело является философией, тебе не надо усваивать ее в созерцании» [Arnim 1998, 329].
В сравнении с книгой Беттины текст Герцык представляет собой значительную редукцию романтического женского письма, как на уровне проблематики, так и на уровне структуры и нарративных особенностей.
Список литературы Редукция романтического женского письма в тексте А.К. Герцык "История одной дружбы (Беттина Брентано и Каролина Ф. Гюндероде)"
- Барышева С.И. Проблема романа как "женского" жанра: бахтинский принцип диалогизма в свете феминистской литературной теории // Новый филологический вестник. 2016. № 4(39). С. 54-60.
- Боровикова М. Поэтика Марины Цветаевой (лирика конца 1900-х - 1910-х годов). PhD Thesis. Тарту, 2011. 150 с.
- Герцык А.К. История одной дружбы (Беттина Брентано и Каролина ф. Гюндероде) // Герцык А.К. Жизнь на осыпающихся песках. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. С. 107-124.
- Древиц И. Беттина фон Арним. Романтизм. Революция. Утопия. Биография. М.: Радуга, 1991. 311 с.
- Arnim B. Die Gunderode. Munchen: BTB, 1998. 504 s.
- Baumer K, Schultz H. Bettina von Arnim. Stuttgart; Weimar: Verlag J.B. Metzler, 1995. 206 s.
- Hilmes C. "Lieber Widerhall". Bettine von Arnim: Die Gunderode - Eine dialogische Autobiographie // Germanisch-Romanische Monatsschrift (GRM). N.F. 46. 1996. S. 424-438.
- Landfester U. Selbstsorge als Staatskunst. Bettine von Arnims politisches Werk. Wurzburg: Konigshausen & Neumann, 2000. 406 s.
- Stone A. Bettina von Arnim's Romantic Philisophy in Die Gunderode // Hegel Bulletin. 43/3. 2021. S. 371-394.