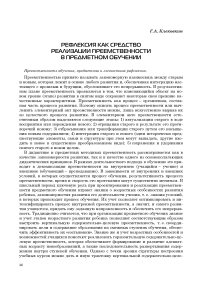Рефлексия как средство реализации преемственности в предметном обучении
Автор: Клековкин Геннадий Анатольевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 4 (18), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются роль и место рефлексии в преемственности развития учащегося как субъекта учебной деятельности. Показывается, что рефлексия является необходимым условием и эффективным средством реализации внутренней преемственности в процессе предметного обучения.
Преемственность обучения, предметная и личностная рефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/144153353
IDR: 144153353
Текст научной статьи Рефлексия как средство реализации преемственности в предметном обучении
Преемственностью принято называть закономерную взаимосвязь между старым и новым, которая лежит в основе любого развития и, обеспечивая интеграцию настоящего с прошлым и будущим, обусловливает его непрерывность. В результативном плане преемственность проявляется в том, что изменяющийся объект на новом уровне (этапе) развития в снятом виде сохраняет некоторые свои прежние качественные характеристики. Преемственность как процесс – органичная, составная часть процесса развития. Поэтому описать процесс преемственности или вычленить элементарный акт преемственности можно, лишь искусственно вырвав их из целостного процесса развития. В элементарном акте преемственности естественным образом выделяются следующие этапы: 1) актуализации старого в ходе восприятия или порождения нового; 2) отрицания старого в результате его противоречий новому; 3) отбрасывания или трансформации старого путем его насыщения новым содержанием; 4) интеграции старого и нового (одни исторически предшествующие элементы, связи и структуры при этом могут выпадать, другие входить в новое в существенно преобразованном виде); 5) сохранения и удержания снятого старого в новом целом.
В дидактике и предметных методиках преемственность рассматривается как в качестве закономерности развития, так и в качестве одного из основополагающих дидактических принципов. В рамках деятельностного подхода к обучению это приводит к декомпозиции преемственности на внутреннею (учащийся – учение) и внешнюю (обучающий – преподавание). В зависимости от внутренних и внешних условий, в которых осуществляется процесс обучения, результативность процесса преемственности, время и скорость его протекания могут существенно меняться. В школьный период ключевую роль при проектировании и реализации преемственности предметного обучения играют знания о возрастных особенностях развития ребенка, закономерностях развития его деятельности учения, т. е. знания условий, в которых происходит процесс обучения. Их учет позволяет оптимизировать и интенсифицировать процесс внутренней преемственности, а значит, и самого развития учащегося, придать ему заданную направленность и обеспечить его непрерывность. Традиционно считается, что при организации предметного обучения знание и учет этапов возрастного развития ребенка позволяют соответствующим образом выстроить вертикальную содержательно-целевую преемственность, т. е. скоординировать цели и содержание образования на смежных ступенях обучения, обеспечить эффективность их «состыковки». Знание же и учет возрастных особенностей и возможностей учащихся помогают реализовать горизонтальную содержательно-целевую преемственность, которая обеспечивает формирование и развитие адекватных возрасту новообразований, а также последовательность развертывания содержания внутри ступеней обучения. Однако с точки зрения структуры построения учебных курсов можно дать и иную трактовку вертикальной содержательно-целе- вой преемственности. Ее, например, можно связать с переходом к новым методологическим или логическим основаниям при построении учебного материала, означающим выход на новый, как правило, более высокий уровень учебного познания. Такой переход, как известно, нередко осуществляется в рамках одной образовательной ступени.
Содержание образования может существовать только в процессе обучения, поэтому многие авторы выделяют и делают предметом специального рассмотрения процессуальную преемственность обучения. Долгое время процессуальная преемственность выражалась в требованиях к установлению и реализации необходимых соотношений между методами, формами и средствами введения и последующего усвоения нового учебного материала, которые используются на смежных ступенях обучения. Сегодня чаще всего она связывается с поэтапным формированием учебно-познавательной деятельности учащегося, развитием его как субъекта этой деятельности.
Одним из важнейших механизмов развития учащегося как субъекта учебно-познавательной деятельности является рефлексия. Во многом благодаря рефлексии формируются, трансформируются, развиваются и распадаются мотивы конкретных видов учебной деятельности; «запускаются» процессы целеобразования, целеполагания и планирования. В ходе реализации деятельности под решающим влиянием рефлексии формируются и функционируют специальные и универсальные учебно-познавательные действия; происходят становление и развитие способностей и готовности к самоконтролю, самооценке и самокоррекции. Поэтому, начиная с середины прошлого века, рефлексия, ее виды, этапы становления в учебной деятельности и т. п. становятся предметом многочисленных и разноплановых исследований психологов и педагогов (Г.И. Богин, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Петровский, И.Н. Семенов, А.В. Хуторской, Г.А. Цукерман, Г.П. Щедровицкий и др.). Становление и развитие механизмов рефлексии являются узловым моментом теории развивающего обучения В.В. Давыдова [Давыдов, 1996], концепции онтогенетического развития субъективной реальности В.И. Слободчикова [Слободчиков, 1994]. Интеллектуальный и личностный виды рефлексии в структуре продуктивного мышления вводит И.Н. Семенов и совместно с В.К. Зарецким и С.Ю. Степановым исследует роль и функции рефлексии в процессе решения творческих задач [Исследование проблем…, 1983, с. 27–61, 101–132, 154–182]. Г.И. Богин изучает роль рефлексии в понимании текстов [Богин, 2004] и т. д. Огромный арсенал приемов, позволяющих вывести учащегося в рефлексивную позицию, накоплен в предметных методиках. Вместе с тем достаточно редко, по крайне мере явно, рефлексия рассматривается в контексте исследований преемственности обучения.
В статье ставится задача на основе теоретического анализа исследований, посвященных различным видам рефлексии, выявить роль, место и функции рефлексии в реализации преемственности обучения. Эта задача возникла при изучении проблемы преемственности школьного геометрического образования. Проведенный анализ методических работ, рассматривающих различные аспекты преемственности предметного обучения, показал, что в подавляющем большинстве случаев в фокус внимания исследователей не попадают психологические механизмы внутренней преемственности. Однако умственная деятельность человека, социальная по своему происхождению и содержанию, протекает по психологическим законам. Становясь предметом учения, содержание образования принимает форму живого индивидуального психического процесса, именно в нем проходит как присвоение, так и расширенное воспроизводство социокультурного опыта. Поэтому, не опираясь на функциональные и операциональные механизмы протекания психических процессов, невозможно построить теоретически обоснованную модель реализации внутренней преемственности обучения. В качестве базовых функциональных механизмов преемственности были рассмотрены различные виды памяти, обеспечивающие сохранение и простое воспроизводство наличного учебно-познавательного опыта, и различные виды воображения и мышления, благодаря которым происходит его продуктивное творческое преобразование. Основные же оперциональные механизмы, обеспечивающие преемственные взаимосвязи старого и нового в процессе индивидуального познания, были связаны с функционированием универсальных мыслительных операций (сравнение, обобщение и конкретизация, анализ и синтез) и методов умственной деятельности (индукция, дедукция, аналогия) [Клековкин, 2010]. Рассмотрение «работы» этих механизмов на содержательном уровне (на примере обучения геометрии) показало, что в построенной психологической модели реализации внутренней преемственности обучения отсутствуют основания, позволяющие объяснять, как «запускаются» мыслительные процессы в незнакомых учебно-познавательных ситуациях и как происходит их регуляция в ходе освоения этих ситуаций. Почему в качестве этого недостающего звена была выбрана именно рефлексия, видно из содержания предыдущего абзаца.
Поскольку основными характеристиками любой деятельности являются ее предметность и субъектность, то, заведомо упрощая исследование, можно выделить два основных вида рефлексии – предметную и личностную. Первая направлена человеком на собственную деятельность и деятельность другого (других), а вторая – на себя как субъекта деятельности и общения. После этого достаточно естественно выделить и рассмотреть два уровня предметной и два уровня личностной рефлексии. Объектами предметной рефлексии на первом уровне являются содержание, процесс и результаты деятельности, а на втором – смысл и логические основания этой деятельности. В качестве объекта личностной рефлексии на первом уровне выступает сам действующий субъект, т. е. собственные мотивы, цели, знания, умения и т. д., на втором же уровне объектом становится сам рефлектирующий субъект (рефлексия рефлексии). Понятно, что проще всего видеть со стороны, анализировать и оценивать деятельность другого, гораздо труднее увидеть со стороны, проанализировать и оценить свою деятельность, еще труднее видеть, анализировать, объективно оценивать и по собственной инициативе совершенствовать себя как субъекта деятельности. Так же точно гораздо легче рефлектировать деятельность, чем ее основания, и увидеть со стороны себя действующего, чем себя рефлектирующего.
В сложившейся предметной деятельности взаимосвязи между двумя указанными видами рефлексии и их уровнями носят системный характер, выделить и сделать предметом специального рассмотрения эти виды и уровни можно только в абстракции. Более того, многие рефлексивные процессы в такой деятельности остаются невидимыми, обнаруживая себя только в ее разрывах. Вместе с тем описанная модель позволяет определить порядок формирования выделенных видов и уровней рефлексии в учебном процессе, в частности, указать место и функции рефлексии при реализации преемственности обучения.
«Увидеть работу» рефлексии как механизма преемственности можно при изучении процессов построения новой деятельности и при переходе от одних способов, средств и видов деятельности к другим. Наиболее наглядный пример такой ситуации описан в работах Г.П. Щедровицкого и В.А. Петровского, где рассматривается рефлексия, венчающая завершение акта деятельности, поставленная цель в ко- тором достигнута. Поэтому начнем с редукционистской интерпретации (в свете поставленной в статье задачи) этой ситуации.
Согласно деятельностной теории обучения и развития все специфически человеческие способности имеют прижизненное происхождение, а первоосновой и всеобщей формой психического, интеллектуального и личностного развития являются реконструкция и усвоение учащимся определенного социального опыта в собственной деятельности.
По мнению Щедровицкого, построение процессов деятельности ведет к нужному, собственно человеческому развитию способностей только тогда, когда над этими процессами надстраивается вторичная деятельность, выделяющая и оформляющая новые средства и способы деятельности. Иначе говоря, должна появиться рефлексия по отношению к исходной деятельности. Ее специфическая задача состоит в том, пишет Г.П. Щедровицкий, «чтобы выделить в построенном процессе деятельности какие-то новые образования, которые могли бы служить средствами для построения новых процессов деятельности. При этом… должно происходить какое-то сопоставление процессов деятельности с уже имеющимися системами объективных средств и способов, и только на этой основе может происходить действительно продуктивный анализ процессов. При этом, конечно, анализ не может ограничиваться одним лишь процессом, а должен будет охватывать также задачи, объекты и продукты процессов деятельности. Итогом рефлексии будет выделение и оформление в каком-то виде новых объективных средств построения деятельности» [Щедровицкий, 1993, с. 151].
Аналогичные мысли высказывает и В.А. Петровский. Он, правда, как следует из контекста, говорит о субъекте, рефлексивная деятельность у которого уже сформирована. В.А. Петровский пишет, что какова бы ни была исходная направленность деятельности, в результате ее осуществления преобразуется жизненная ситуация субъекта, меняются круг его возможностей, его предметное и социальное окружение. Поэтому после того, как процесс деятельности осуществлен и поставленная цель достигнута, рефлектирующий «индивид продолжает действовать над порогом ситуативной необходимости, причем делает предметом своей активности то новое, что было сформировано им косвенно в ходе осуществленной деятельности, актуализируя накопленный потенциал рожденных ею связей и отношений его к миру» [Петровский, 1996, с. 67–68]. Приведенное им обоснование этого тезиса опирается на два положения.
Во-первых, «индивид строит образ тех условий, в силу которых предшествующий акт привел к индивидуально значимому эффекту, а также – образ вновь созданной ситуации. Воспроизводство таких условий может иметь как реальный (в виде практического воссоздания условий), так и идеальный характер» [Там же, с. 68]. Эти процессы являются, по его мнению, проявлениями рефлексии; первый выступает в форме ретроспективного восстановления и осмысления истории акта деятельности, второй относится к возможному будущему и характеризует проспективный момент рефлексии. Он считает, что обе процедуры имеют строго необходимый характер, а открывшаяся в ходе их проведения новизна в системе предметных условий пробуждает активность в новых, порой непредвиденных направлениях. «В конечном счете индивид за счет ретроспективного и перспективного планов рефлексии расширенно воспроизводит образ ситуации, первоначально направлявшей действие, углубляет и обогащает образ мира» [Там же, с. 69]. Во-вторых, индивидуально-значимое завершение деятельности и расширенное воспроизводство индивидуального опыта выходят за пределы индивидуальной деятельности и завершаются передачей инноваций другим индивидам [Там же, с. 71].
Здесь речь идет главным образом о предметной рефлексии, завершающей акт деятельности, поставленная цель в котором достигнута. В свете решаемой задачи можно сделать следующие выводы о роли и функциях этого вида рефлексии в реализации преемственности обучения. С одной стороны, он направлен на то, чтобы сделать видимыми реализованные в ходе обучения содержательные взаимосвязи старого и нового, т. е. выявить, где и как новые знания и умения включались в сложившиеся ранее, а старые, в свою очередь, преобразовывались под влиянием новых. Осмысление учащимся этих взаимосвязей является необходимым условием и механизмом систематизации, иерархизации и формирования структурной целостности индивидуального предметного опыта. С другой стороны, рассмотренный вид рефлексии выступает как эффективный способ целеобразования; осмысление полученных результатов становится средством поиска и актуализации направлений дальнейшего развития учебного познания, а значит, средством преемственной взаимосвязи наличного и будущего индивидуального учебно-познавательного опыта. Из сказанного следует, что для учащегося рефлексия процесса деятельности и достигнутых в нем результатов служит необходимым условием и одним из внутренних механизмов осуществления преемственности деятельности учения, а для учителя – дидактическим условием и одним из важных средств реализации преемственности в деятельности преподавания.
Для запуска этих механизмов в процессе обучения завершение отдельного акта или этапа учебной деятельности не должно «угасать» в его продукте, а должно заканчиваться анализом, выделением и фиксацией средств и условий, позволивших получить этот продукт, а также обсуждением открывшихся возможностей и перспектив для построения новых процессов деятельности. Объектом такой рефлексии в зависимости от решаемых дидактических и методических задач могут быть: процесс и результат решенной задачи, доказанной теоремы и т. п.; возможности и границы применимости некоторого приема или метода; предметное содержание относительно завершенного отрезка обучения (параграфа или урока, блока уроков, темы, учебного курса) и т. д.
Другой вид рефлексии, широко используемый в теории и практике проблемного и развивающего обучения, связан с «отрицательными» результатами учебно-поисковой деятельности. Учащемуся ставится задача, для решения которой его наличных знаний и умений недостаточно. После безуспешных попыток решить такую задачу он оказывается в проблемной ситуации, требуется остановка дальнейшего процесса поиска решения, чтобы осознать причины возникших затруднений. Ретроспективный план рефлексии в этом случае связан с фиксацией учащимся знания о собственном незнании, т. е. с переоценкой наличного индивидуального опыта и определением его истинных границ. Восстановление картины выполненных поисковых действий и выяснение сущностных причин затруднений позволяют определить направления поиска необходимых для решения задачи новых знаний и способов деятельности. В этой рефлексивной деятельности осуществляется переход от предметной рефлексии к личностной и происходит их интеграция. Осознание недостаточности наличного предметного опыта для продуктивных действий в незнакомой ситуации не только ведет к его переосмыслению и обусловливает изменение общих представлений об уже освоенных ситуациях, но и проецируется на себя как носителя этого опыта. Поэтому освоение новой ситуации изначально строится как осмысленный процесс отрицания, отбрасывания или трансформации, обобще- ния и качественного обогащения прежнего опыта. Таким образом, рефлексия опять выступает одним из механизмов функционирования внутренней и дидактических средств реализации внешней преемственности.
Очевидно, что процесс восприятия и усвоения нового и процесс его самостоятельного порождения значительно отличаются друг от друга. Вместе с тем каждый из этих процессов включает в себя сравнение, порой многократное, наличного старого с новым и осмысление их взаимосвязей.
Рефлектирующий индивид не просто присваивает готовые знания и способы деятельности, а заново их реконструирует в собственной деятельности, постоянно вступая для этого в мысленный диалог с носителем новой информации (обучающим, учебным текстом и т. п.), и опирается при этом на свой наличный познавательный опыт. В контексте поставленной задачи интересно психолингвистическое исследование Г.И. Богина. Связывая рефлексивную деятельность с проблемой понимания, он выделяет три типа рефлективных актов, возникающих при понимании текстов. Первый тип рефлексии, на его взгляд, сводится к простому ассоциированию образов единиц текста. Такая рефлексия возникает в тех случаях, когда содержательность нового существенно не отличается от содержательности уже известного. Здесь рефлексия содержится либо в зачаточном, либо в снятом (понимание уже превратилось в знание) виде. Второй тип рефлексии связывается автором с включением нового в сложившуюся ранее систему познавательного опыта. Этот тип рефлексии имеет место в тех случаях, когда возникает потребность в осознанной интерпретации старого опыта сопоставительно с новым. Третью, собственно «рефлективную позицию» в деятельности с текстом Г.И. Богин видит в целенаправленном обращении к прежнему опыту на основе осознанной или не осознанной схемы действования. При этом он отмечает, что в ходе понимания текстов ассоциативные, интерпретативные и собственно рефлексивные акты деятельности не сливаются, а постоянно взаимодействуют и взаимозаменяются [Богин, 2004, с. 239]. Нетрудно перенести приведенную классификацию типов рефлексии при работе с текстами на процессы восприятия любой новой информации. Еще одной продуктивной базой для обобщений может стать предлагаемая автором уровневая модель рефлектируемого образа ситуации [Там же, с. 249–250].
В процессе порождения нового рефлектирующий индивид ведет уже мысленный диалог с самим собой, нередко при этом новое «является» ему как актуализация и неожиданное переосмысление неявных знаний, приобретенных в прошлом познавательном опыте. Наиболее выпукло увидеть роль и функции рефлексии в процессах порождения нового можно с помощью психологической модели творческого процесса, предложенной Я.А. Пономаревым. Он разделяет точку зрения исследователей, которые в психологическом механизме творчества выделяют несколько относительно самостоятельных фаз, последовательно сменяющих друг друга, и выделяет в этой последовательности четыре фазы: логического анализа, интуитивного решения, вербализации интуитивного решения, формализации вербализованного решения [Исследование проблем…, 1983, с. 3–19].
В фазе логического анализа решающий обращается к тем наличным знаниям и умениям, которые он может актуализировать и воспроизвести в незнакомой для него ситуации. Его умственная деятельность определяется доминированием высокой осознанности результатов и процессов поисковых действий, которая проявляется в произвольном рефлексивном логическом контроле над ними. Результатом этой фазы является осознание невозможности дальнейшего продуктивного продвижения в предметном содержании задачи, наступающая при этом блокада в осоз- нанном предметно-операцианальном движении служит индикатором перехода процесса поиска решения ко второй фазе. В фазе интуитивного решения ассоциативно-логический процесс «уходит из сознания» и дальше протекает на подсознательном уровне. По Я.А. Пономареву, данная фаза характеризуется доминированием неосознаваемого: само осознание факта решения происходит неожиданно, решающий чувствует, что задача практически решена, но объяснить, как получено решение, не может. Поэтому решение переживается как непонятно откуда взявшееся, как озарение, инсайт и т. п. Определяющая роль в усмотрении решения, считает он, принадлежит зафиксированному в неосознаваемом опыте побочному продукту предшествующей деятельности. При этом Я.А. Пономарев опирается на экспериментально установленные факты, свидетельствующие о двойственности результата человеческого действия (наличие в нем прямого, осознаваемого, и побочного, неосознаваемого, продуктов). Момент озарения является границей, которая разделяет фазу интуитивного решения и фазу его вербализации; способ решения в этот момент еще не осознается. Его выявление и описание становятся специальной задачей следующей, третьей фазы. Доминирующий тип поведения в этой фазе, отмечает Я.А. Пономарев, характеризуется углублением осознанности решения задачи: осознается не только результат, но и процесс (способ) его получения. Задача, которая решается на фазе формализации вербализованного решения, направлена на придание найденному решению окончательной, логически завершенной формы. Здесь тип поведения опять определяется доминированием высокой осознанности результатов и процессов действий и соответствующей этому сознательной целенаправленностью.
Считая переходы в процессе решения с одного доминирующего уровня осознанности на другой определяющей характеристикой творческих задач, Я.А. Пономарев видит в них внутреннее организующее начало управления процессом решения. Он, в частности, пишет: «В ходе решения обнаруживается движение сверху вниз и снизу вверх. На высших уровнях задачи осознаются. Здесь заложено организующее начало. Низшие уровни оказываются в ходе творческого процесса до поры до времени дезорганизующим началом: именно здесь разбиваются, рушатся построенные логическим путем гипотезы, замыслы, программы решений… Вместе с тем именно в ходе дезорганизации на низших уровнях приобретается необходимый материал (побочные продукты) для решения задачи, требующей творческого подхода. В момент решения этот материал, возникая на одном из низших уровней, ''прорывается'' на смежный с ним уровень, а затем начинается его постепенный подъем кверху, управляемый высшими структурными уровнями организации процесса» [Исследование проблем…, 1983, с. 8].
В целом принимая взгляды Я.А. Пономарева, хочется заметить, что наряду с побочными продуктами важную роль в процессе поиска решения творческой задачи играют некогда осознанные результаты и способы деятельности, которые по каким-либо причинам в последующем ушли из поля сознания (новое – хорошо забытое старое), а также снятые интеллектуальные автоматизмы и смысловые, целевые и операциональные установки, сопровождающие процесс решения. И еще, в фазе, которую Я.А. Пономарев называет интуитивным решением, «рождается» не решение, а только образ будущего решения, для того чтобы стать решением, он должен быть облачен в знаковую форму.
Как видно из сказанного выше, рефлексия процесса и результатов деятельности всякий раз связана с выходом за ее пределы, с оценкой наличных ресурсов и т. п. Благодаря рефлексии деятельность выходит на качественно новые уровни. Прово- дя параллели, можно высказать гипотезу, что всякий переход с одного доминирующего уровня осознанности на другой в ходе решения творческих задач также обусловлен соответствующим ему рефлексивным процессом. Другими словами, переход на новый доминирующий уровень осознанности определяется изменением образа рефлектируемой ситуации, уровня и способов рефлексии, причем переход на более низшие уровни связан с «отрицательными» результатами поисковой деятельности, а восхождение вверх – с положительными.
Действительно, при переходе от первой фазы ко второй, т. е. с сознательного уровня на уровень подсознания, имеет место уже описанная выше рефлексия, связанная с «отрицательными» результатами поисковой деятельности. Процесс мышления на уровне подсознания (в фазе интуитивного решения) протекает преимущественно в неязыковой форме, осуществляясь в универсальном предметно-схемном коде (гипотеза Н.И. Жинкина). Такой код представляет собой своеобразный язык внутренней речи, который свободен от избыточности, свойственной натуральным языкам. Во внутренней речи «могут появляться… пространственные схемы, наглядные представления, отголоски интонаций, отдельные слова», в ней смысловые связи представлены предметно, а не формально, смыслы преобладают над значениями и т. д. [Жинкин, 1982, с. 92]. Максимальная свернутость, фрагментарность и предикативность внутренней речи, ее синтаксическая сокращенность значительно расширяют возможности по переработке информации, хранящейся в долговременной памяти, неизмеримо увеличиваются скорость обработки, а значит, и объем обработанной информации. При этом, по-видимому, внутренняя речь «не делает особых различий» между уже осмысленной и еще неосознанной информацией, но в ней под непосредственным влиянием принятых смысловых и целевых установок идут постоянный непроизвольный рефлексивный контроль за ходом «всплывающих» из памяти фрагментов информации и оценка их пригодности для решения задачи. Именно они определяют образ рефлектируемой ситуации и в конечном итоге «сигнализируют» о появлении образа решения. Очевидно, что в некоторых случаях, например при появлении перспективных гипотез или явных противоречий, внутренняя речь может принимать развернутые формы. В подобных случаях, чтобы произвольным усилием повторно вызвать и удержать возникшее впечатление, мы возвращаемся на уровень сознания, пользуясь для этого «внешней речью про себя» или / и целенаправленным оперированием образами различных модальностей. После необходимых уточнений ход решения опять опускается на подсознательный уровень.
После интуитивного появления решения область осознанности решения исходной задачи, по Я.А. Пономареву, существенно расширяется: осознанным оказывается не только результативная, но и процессуальная сторона, т. е. способ решения. Решающий приобретает возможность вербализовать этот способ и тем самым передать его другому человеку. К этому следует добавить, что передать способ решения другому можно не только словами, но и с помощью чертежа, наглядной схемы и т. п. Из авторского контекста можно понять, что расширение области осознанности происходит за счет включения в нее побочного продукта. Расширение, кроме того, может идти в результате вторичного осмысления «забытого» прежнего опыта и осознания познавательных действий, направлявших поиск решения. При этом меняются не только область осознанности, но и ее уровень за счет включения в рефлексивный процесс внешних вербальных и визуальных средств. На заключительной фазе преобразование области осознанности происходит главным образом с помощью привлечения к решению осознанных знаний и принятых в предметной об- ласти задачи языковых средств и правил построения правильных утверждений. Восходящее движение по уровням осознанности не исключает, разумеется, и попятных сползаний на предыдущие уровни, где начинаются новые витки рефлексии, специфичные для этих уровней. Именно в этих рефлексивных процессах и происходит отбрасывание или трансформация старого путем его насыщения новым содержанием.
Рефлексивные процессы, таким образом, не только стоят у истоков новых видов и этапов учебно-познавательной деятельности и завершают акты деятельности, цель в которых достигнута; они самым тесным образом вплетены во все фазы процессов восприятия и усвоения нового и процессов его самостоятельного порождения. Результаты анализа и их обобщение показывают, что рефлексия является органичной составной частью психологической модели реализации внутренней преемственности обучения. Для учащегося рефлексия на всех этапах учебно-познавательной деятельности является необходимым условием и одним из внутренних механизмов осуществления преемственности деятельности учения, а для учителя – дидактическим условием и одним из важных средств реализации принципа преемственности обучения.