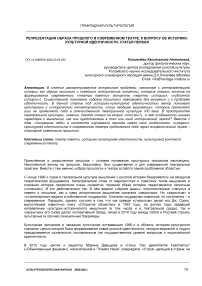Репрезентация образа прошлого в современном театре. К вопросу об историко-культурной идентичности. Статья первая
Автор: Кокшенёва К.А.
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Прикладная культурология
Статья в выпуске: 3 (61), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с интерпретацией истории как образа прошлого и новейшие исторические концепты, которые оказали влияние на формирование современного «театра памяти» (концепты «жертвы истории», «публичной истории»). Существенное понимание «образа прошлого» невозможно без внимания и к проблеме идентичности. В данной статье под историко-культурной идентичностью автор понимает культурную и историческую неповторимость, «лица необщее выраженье», которые проявляют (или не проявляют) себя в отечественной театральной культуре XXI века. В пространстве театральной культуры, конечно, даётся ответ на вопрос «кто мы?», в чём особенности нашего характера и мышления, как они представлены в тот или иной исторический период? Вместе с тем, «понимание себя» в контексте изучаемого периода имело свои особенности: историко-культурная идентичность в современном театре предъявляла себя через апофатический приём – отрицание советского прошлого.
Театр памяти, историко-культурная идентичность, культурный контекст, современный театр
Короткий адрес: https://sciup.org/170210930
IDR: 170210930 | DOI: 10.34685/HI.2025.22.23.033
Текст научной статьи Репрезентация образа прошлого в современном театре. К вопросу об историко-культурной идентичности. Статья первая
Прояснённое и осмысленное прошлое – условие понимания культурных процессов настоящего. Накопленный взгляд на прошлое, безусловно, был существенен и для современной театральной практики. Вместе с тем именно «образ прошлого» в театре остаётся самой проблемной областью.
С конца 1990-х годов в театральной культуре мышление о русской истории базировалось на западном теоретическом фундаменте. Категорический отказ от марксистских и советских типов мышления в описании истории проявлялся очень конкретно: прежний образ истории представлялся неполным («ложным»). И это действительно так. В нём видели «чёрные дыры», многочисленные «лагуны» в памяти о прошлом, как и само историческое мышление полагали «закрытым». Но «закрытым» и «тоталитарным» видели и собственное государство. Сначала государство советское, но постепенно – и современное. Парадокс, однако, состоял в том, что как прежде «открытым» делал его Дж. Сорос, выпустивший известную книгу «Открытое общество» в 1991 году, на долгие годы задавшей направление культурно-исторического мышления (в том числе и в театральной среде), так и «закрытым» его снова делал коллективный Запад, начав в 2014 году между собой и Россией строить культурные (и прочие) санкционные баррикады.
Культурная экспансия и западная культурная интервенция 1990-х в область историко-культурного сознания, целью которой было формирование новой русской идентичности, сегодня медленно и трудно преодолевается сознательно поставленным (на государственном уровне) вопросом о национальной идентичности.
В 2012 году критик и редактор Марина Давыдова в статье “Der gewöhnliche Faschismus” («Обыкновенный фашизм»), напечатанной в “Theater Heute” утверждала: «Строй, царящий в стране, не является ни чистой диктатурой, ни одной из демократий по западному образцу. Это ни тоталитаризм, ни фундаментализм, ни “открытое общество” Карла Поппера. Это и то, и другое, а также всё одновременно. Страна напоминает лоскутное одеяло. Рассматривая один из этих лоскутов или сегментов, можно констатировать, что уровень свободы в России не отличается от Голландии или Германии. В другой части России это напоминает полицейское государство, похожее на Белоруссию под управлением Лукашенко, в третьем можно подумать, что сегодняшняя Российская Федерация – скорее всего, сопоставима с теократическим Ираном. Западным (да и восточным, кстати, тоже) людям не объяснить легко то, почему девушки, танцующие в церкви и пару раз пропевшие “Богородица, Путина прогони!”, осуждены и на два года лишены свободы, – в то время как актёры, которые несколько раз в месяц в центре столицы исполняли резкую сатиру “BerlusPutin” на президента в известном “Teatr.doc”, оставались на свободе. И ещё больше: их постановка будет выдвинута, скорее всего, для национальной театральной премии “Золотая маска”. Это, подчеркиваю, есть при отсутствии независимых оценок. Оценщиком является государство» [1]. Правда, как следует из дальнейших рассуждений критика, цензурные фильтры государства часто на практике совершенно не работали: так, на детском фестивале «Радуга» в Петербурге показали спектакль Кшиштофа Варликовского «Африканские сказки Шекспира», в котором польский режиссёр говорил «об отверженных», то есть геях, стариках и темнокожих. Формат фестиваля – детский, то есть, в той же Германии, считает критик, показ такого спектакля на театральном фестивале, адресованным детям, попросту невозможен. А вот в России вся эта акция была расценена М.Давыдовой как «лицемерные гомофобные усилия власть имущих», сосуществующие «с такой вседозволенностью» [1]. Манипулирование и формирование ситуации «бесконечного тупика» – типичные приёмы критиков, когда речь идёт о Российском государстве.
«Борьба с государством» стала устойчивой тенденцией в среде театральных деятелей. Государство и свобода были объявлены полными антиподами с 1990-х годов. Эту интеллектуальную позицию я бы назвала «превентивным ударом» со стороны профессионального сообщества. Цензура в России была отменена, а государство чаще всего реагировало (и то не всегда) на общественное мнение, проявленное «ортодоксальными активистами», то есть православной и иной общественностью. Но свобода от государства как принципиальная часть «новой идентичности» требовала от театральных деятелей всё время поднимать вопрос о «цензуре», то есть преднамеренно оставлять его в актуальной культурной повестке. «Мы пишем всё, что хотим, и как хотим, – заявляет главный редактор журнала «Театръ». – Никто не ограничивает нас. <…> Один очень известный актёр и художественный руководитель «Театра Наций» Евгений Миронов снимался во время президентской избирательной кампании в рекламном трейлере, который призывал к тому, чтобы голосовать за Путина. В руководимом Мироновым «Театре Наций» проходил спектакль «Circo Амбулаторно» Андрея Могучего (поставлен в 2012 году. – К.К .). Это полит-сатира с фантасмагорическими элементами, с очевидным пародированием путинской России, высший правитель показан как карикатура на верховного проводника власти, который, чего бы это ни стоило, хочет сохранить как вечную молодость, так и вечную Власть» [1]. В другом спектакле Андрея Могучего «Губернатор» (2017) по рассказу Леонида Андреева также исследовалась тема власти: «… В борьбе, которая ведётся оружием, победителем всегда будет не тот, который лучше, а тот, который хуже, то есть который жесточе, меньше жалеет и уважает человеческую личность, неразборчив в средствах…» [2] Речь у Андреева идёт о революции 1905 года, в фабричном городе рабочие объявили голодовку, потом вышли на встречу с губернатором, в ходе которой начались беспорядки, и губернатор отдал приказ стрелять; были убиты, как повествует автор, 47 человек; но позже неизвестными был убит и сам губернатор. Он ожидал исполнения «смертного приговора», вынесенного ему некой «революционной партией». Собственно, рассказ Л.Андреева – это внутренний монолог губернатора, готовящегося к смерти. Кровавые глаза и «трупный» грим на лицах героев; лицо Рабочего, превратившееся в «стальную маску»; морфинистка-декадентка – жена губернатора с красным цветком на чёрном платье (европейским символом революции); кровавые подтеки под глазами, лёгкое инферно в лицах, муляжи мёртвых собак, куча гнилых яблок и поваленные в кучу же «мёртвые тела» расстрелянных; люциферическая парочка «ангелов» с железными крыльями, спускающихся по иллюминированным лестницам для «посещение ада», обликом напоминает эсеров – всё это работает на эффект «саспенса»: создаёт атмосферу мучительного ожидания (уже и зрители волей-неволей ждут смерти Губернатора), вызывает страх, тревогу, поддерживая остроту впечатлений. Этот писатель оказался удивительно пригоден для современного театра, в котором мало исторической пытливости. Андреев и театр (вслед за автором) не исследуют человека, и не размышляют о том, почему стреляя в рабочих, вызываешь к жизни возмездие; а почему при убийстве губернаторов и императоров, вопрос о возмездии не стоит? В период террора нигилисты-революционеры всех мастей
«право имели» стрелять в любого, кто носит мундир, то есть олицетворяет государство. Почему, нечаянно убитый в «кровавое воскресенье», ребенок вызывает в Губернаторе и нашей памяти судороги ужаса, а вот террористки, везущие из-за границы на себе взрывчатку, и при этом берущие с собой собственных детей для прикрытия «операции», то есть матери, сознательно подвергавшие возможности уничтожения детей ради «борьбы с самодержавием» – в современном человеке не вызывают шока и у современного режиссера нет потребности об этом думать? Домыслить до такого предела «вопрос о революции» наш современник не может в силу отсутствия у него исторического и философского фундамента. А потому спектакль в эстетике «хоррор», и вроде как посвященный революции 1917-го в год её столетия, не имеет, в сущности, другого основания, кроме советской мыслительной практики. Андреевский абстрактный гуманизм «к человеку вообще», его примитивный анти-самодержавный протестный пафос был в советское время вполне востребован, и сегодняшнего режиссера андреевская «трактовка» истории вполне устраивает.
Не накопил современный театр в себе иного знания для иного взгляда. Сегодня мало сказать, что Губернатор ждёт к себе жалости и милости – важно было бы сказать о чудовищном витке нигилизма с его «правами разума», «точкой отсчёта» для наступления которого стал день 1 марта 1881 года, когда был убит Александр II Освободитель (покушались на него семь раз). В этот день началось новое общественное рабство мысли и чувства: Лев Толстой и Владимир Соловьев, напирая вдруг на традиционное христианство, к которому лично были равнодушны, требовали от нового Царя «христиански простить» первомартовцев-террористов… Таким образом, историко-культурная идентичность спектакля «Губернатор» проявилась в режиссерской концептуальной лояльности советской идеологической схеме «царского прошлого», несмотря на принятую в это время критику советского периода истории.
По цитатам критика М.Давыдовой мы видим, что двойные стандарты стали не просто одобренной профессиональным сообществом нормой мышления, но и утверждались через систему театральных образов как необходимая часть культурно-исторической идентичности, в которую, повторим, входила для многих «борьба с государством», «борьба с властью» при воссоздании не только образа настоящего (как в спектаклях-акциях того же московского Театра doc.), но и образа прошлого – как складывался он критиками из спектаклей, поставленных не только по современным пьесам, но и написанным до революции 1917 года.
Так в конце 2022 года в Воронежском Камерном театре Михаил Бычков показал «Мещан» М.Горького. Когда-то, в 2015 году, там был поставлен спектакль «Дядя Ваня» и действие было перенесено в советские 1970-е годы, понимаемые как «годы застоя», в которых человеку «некуда жить». Перенос места действия в современность при обращении к русской классике – общее место современной режиссуры.
Спектакль «Мещане» «предъявлял счёт» тому советскому обществу и государству, которое, согласно западной исторической теории, впитанной отечественными режиссёрами, травмировало обычных людей (историческая концепция «травмы» касалась как отдельного человека, так и народов, получивших «травму» от проживания на одном историко-культурном пространстве с русскими). В «Мещанах» уже совсем «наше время», но, между тем, режиссёр считает, что этот человеческий тип – русских мещан – чрезвычайно устойчив. В старшем поколении семьи Бессемёновых явно живёт совок-мещанин, как в других героях нетрудно заметить приметы «девяностых» и «нулевых». Советский и русский мир у М.Бычкова очень нигилистичен – режиссёр и не скрывает своего язвительного к нему отношения. «Он уже не ищет психологических сложностей, – пишет критик, адепт режиссера, – и всё больше схематизирует, типизирует черты глубинного народа с его несгораемыми ментальными кодами. “Маленькие жалкие людишки ходят по земле моей отчизны”, — писал Алексей Максимыч. Бычков ставит спектакль в русле этого горького обличения (а уж что “буревестник” был недобр, знает каждый ребёнок)» (выделено мной. – К.К .) [3].
Главный концепт спектакля «Мещане» таков – вся внутренняя жизнь «глубинного народа», представленная в образах «наших людей», определяется только одним – новостной телевизионной повесткой. Все они привязаны к телевизору – он им «мать и отец», «властитель дум» и «культурное питание». Сценическое пространство плотно заставлено телевизорами из разных времен – есть тут даже огромные ламповые советские и новые японские (или корейские), хлынувшие в конце прошлого века в огромную торговую зону – в Россию. У каждого героя свой телевизор, в который он, уткнувшись, сидит (при этом часто поедая те самые чипсы и прочие продукты, характерные для массового «общества потребления»). Так называемое «личное пространство» – это и есть исключительно «пространство телевизора». Не пространство страны, не пространство семьи, не пространство истории. Впрочем, уточню – здесь истории, показанной в телевизоре.
Тетерева (а он в спектакле предстаёт в образе солиста-неформала из советского ВИА, но позже, как мы узнаем, он откроет собственное ИП, то есть он останется единственным, принявшим «новую жизнь», а потому, очевидно, и самым оптимистичным из героев драмы) – Тетерева интересует канал «Культура» (он смотрит балет «Щелкунчик», который вызывает у всех прочих «смертельную скуку » ). Один из мещан (Пётр) погружен в «Поле чудес» и удивляется его «окаменелости», существованию вне времени (наблюдение вполне справедливое). Мать семейства Акулина Ивановна уважает сериалы, а Бессемёнов-отец всерьёз и с большой отдачей соучаствует в семейных разборках передач А.Малахова. «Программа передач», появляющаяся в спектакле одновременно – от «В мире животных», «Семнадцати мгновениях весны» до новостей про санкции и «вашингтонскую администрацию» – как раз и концептуально подчёркивает идею режиссёра – только телевизор «связывает времена» (от советского к нынешнему) в общую текучую обыденность. Время безвременья.
Можно ли критиковать мещанство, безудержное потребительство, масскульт? Конечно можно и нужно. Но проблема в другом – в режиссёрской концепции, которая масштабна настолько, что распространяется на ту самую глубокую ментальность русских, о которых уже шла речь выше. Мещане – это весь народ. И это ему, народу-нации, театр ставит диагноз.
То, что человек в бычковской интерпретации называет «своей жизнью» – это нечто жалкое, безвольное, без-мысленное, тупое, разобщённое и несцеплённое ничем и ни с чем. Спектакль принципиально некрасив: под одеждой у артистов толщинки, отягчающие (уродующие) образы героев гипертрофированными пивными животами, боками и обширными седалищами; почти все герои физически неопрятны, на них – тапки, спортивные штаны, растянутые и заношенные пижамы и свитера, так сказать, одеты «по-домашнему». «Своя жизнь» сплошь является пассивно-тупым, почти животным, потреблением еды (пива, чипсов, кукурузного попкорна, конфет) и информации.
Собственно, никакой семьи Бессемёновых нет здесь изначально. Уход детей в финале совсем не становится драматическим эпизодом: далеко не уйдут! А учитывая, что театральным режиссерам (и Бычкову, конечно, тоже) присуща камуфлирующая идентичность двойного стандарта, то конечно, в образе Василия Бессемёнова заложена тема власти как таковой. Глава семейства – вполне тиран, но его авторитет «главы» собственно уже не актуален; он бессилен, а все его наставления, нравоучения и штампованные умозаключения («мы своё прожили – вам жить») воспринимаются как занудные, мёртвые сентенции о «стабильной жизни», напоминающей засасывающую трясину. Наверное, только Тетерев здесь из понимающих и ему всё «противно». Именно он видит, что «беспокоиться» отцу-Бессемёнову (который в Камерном театре имеет статус чиновника и приговаривает, что «не стать ему депутатом») – беспокоиться не стоит. Его сын лишь «немножко перестроит этот хлев… и будет жить, как ты». Всем остальным критик даёт вполне обобщающую характеристику: «Но в основном в отечестве преобладают курицы с соответствующими породе куриными мозгами и глупым кудахтаньем, как у Акулины Ивановны (…) и Татьяны – … с одинаковыми начёсами-хохолками на головах. В их птичьем дворе есть ещё глупая-глупая грудастая и попастая цесарка Елена…» [3] Смею заключить, что для режиссёра «семья Бессемёновых» – это все мы, наш сегодняшний русский народ, мир «не столько людей, сколько отечественной фауны» [3], «одурманенной» жизнью под телевизор, стремительно глупеющий и вырождающийся. «Будем терпеть. Всю жизнь терпели», – этими словами (ядром ментальности по-бычковски) и завершается жёсткий и жестоко-безнадёжный по отношению к русскому человеку спектакль. Человеку, потерявшему давно свою идентичность.
В России, считывает публика, ничего не изменилось с советских времен (кроме, конечно, жизни столицы); то есть было время, когда что-то успело поменяться (тогда ИП завели), но снова всё вернулось на круги своя: как «не жили, а терпели» тогда, так «не живут, а терпят» и сегодня. И только «зомбоящик», демонстрирующий мощь теле-пропаганды, становится утешителем, питая граждан «оптимистическим бульоном», уводя в «иной мир», «облучая мозг», ведь «мещанская русская хтонь бесконечна, векова, мягка, как тапочки, по-своему уютна, она – хорошо удобряет почву для зла» [3]. Тот самый «совок», показывает нам режиссёр, с которым они так упорно боролись (и, казалось, одолели) предыдущие три десятилетия, никуда не исчез. Он легко может «возродиться», утверждает спектакль, пока есть массовая пропаганда.
Нигилистический образ прошлого, перетекающий в настоящее – альфа и омега для тех режиссёров и театральных деятелей, проектное мышление которых всегда опиралось как западные концепции новой «проработки прошлого» (от перестроечной концепции «культуры покаяния» до «нового прочтения», «новой интерпретации» и концепта «свободной истории»). Уверенность, что «российская театральная сфера интегрировалась в общеевропейский контекст» [4] высказывалась до 2014 года. А с этого времени, напротив, уже настойчиво внедрялась мысль, что «сильно пахнет возвращением в советские времена» [5] и что «европеизацию нашего искусства, в частности – театрального, наша власть пережить не в состоянии» [4].
Конечно, новизна и свобода – присущи художнику Нового времени. Но подлинная культура стоит на выборе содержания свободы, то есть она держится за свободу выбора иерархии. Концепция «проработки прошлого», в том числе и в театре, напротив, стоит на тезисе американского методолога, что все «традиции», и все концепции имеют равные права и равный доступ к центрам власти [6]. Центром власти, как показывает наша театральная реальность, был долгое время доступ к западным культур-теориям, в том числе и концепциям «образа прошлого», в котором репрезентовалась («переоткрывалась») тема государства (цензора и левиафана), – государства, породившего такие определяющие черты прошлого как сталинский террор и такую константу как тоталитарность. Травматическое наследие прошлого может снова вернуться, может «отказаться» быть только прошлым – эта мысль настойчиво пульсирует в спектакле «Мещане».
Триада (государство–тоталитаризм–террор) была крепко увязана в один «пакет» для отечественного театрального потребителя его западными «учителями». Но сам «пакет», при его осмыслении и творческой реализации, безусловно, опирался на круг идей, связанных с посттравматической, постмодернистской, постколониальной, трансгуманистической (постчеловеческой) концепциями начала XXI века, производными от которых стали и постпамять, и постдраматический театр.
Когда в 2015 году режиссёр Семён Александровский ставил спектакль «Элементарные частицы» (пьеса В.Дурненкова) в новосибирском театре «Старый дом», он не случайно выбирал формат doc.театра. Сам по себе этот формат – активно и массово освоенная форма. Драматургическим материалом послужили документы и свидетельства очевидцев, участвующих в советское время в создании в Новосибирске Академгородка. Конечно, память тут работает на двух уровнях: как память участников и память тех, кто отделён от участников значительной временной дистанцией (создателей спектакля, принадлежащих к другим поколениям).
Собрав документы и свидетельства очевидцев, драматург не был занят их художественной переработкой, выплавкой характеров, созданием панорамы времени и объёма жизни. В пьесе ролей нет, нет и характеров – пять актёров сидят во фронтальной мизансцене неподвижно и говорят реплики одинаковыми и монотонными голосами (doc.театр любит коллективного, унифицированного героя). Первая часть спектакля «символизирует» некие мечты и надежды о городе-саде и месте свободы и самоуправления, с которыми связывали учёные создание государством Академгородка. После двадцатипятиминутной читки наступает переломный «новый этап»: резкую перемену истории обозначает режиссёр на сцене «проливным дождём» (на сцене льётся натуральная вода, что тоже стало общим театральным штампом). Сей нехитрый приём символизирует наступление в СССР мрачных «дождливых времён» (и они уже больше не кончатся по мысли режиссёра, вплоть до дня сегодняшнего). Артисты надевают плащи, берут в руки листы бумаги и начинается всё та же читка без ролей и характеров на тему антисоветского «письма 46-ти». Публика не знает об этом Письме, имена ей вообще не знакомы, факты из письма перебиваются фактами советской пропаганды и сведениями о борьбе государства с учёными, поддержавшими диссидентов-писателей. Бессмысленный ком отдельных фраз вбрасывается в публику.
В общем, города мечты и интеллектуальной свободы не получилось, – «вывернули руки» академикам советские аппаратчики и учёным не осталось ничего, кроме как заниматься чистой наукой. Мизансцена, в которой все вещи уносятся на задний план и сваливаются в кучу, а актёры унылыми голосами читают сугубо научные тексты, не имела, конечно, никакого художественно-ценного смысла. Но режиссёру было важно подчеркнуть именно оппозиционную активность учёных новосибирского Академгородка, которые подписали протестное письмо во время судебного процесса над четырьмя московскими «диссидентами» (речь идет об А.Гинзбурге, Ю.Галанскове, А.Добровольском и В.Лашковой). Сам процесс, с точки зрения учёных, не должен был быть закрытым, то есть нарушены были принципы «гласности и гарантированных законом норм судопроизводства» [7]. Но в исторических реалиях ни драматург, ни режиссёр предпочли не разбираться. Их не интересовало, почему немедленно к информационной шумихе подключились американские газеты и радио «Голос Америки»; кто такие, собственно, эти четыре «диссидента»; зато было важно указать и на сам факт «протеста», и на то, что советская интеллигенция тоже боялась возврата к политическим процессам 30-х годов. И дело не в том, что говорить об инакомыслии советского времени нельзя – весь вопрос в том, как и зачем возвращаться к ним.
Завершилось это скучное действо «документальной драмы» голосами современных подростков, записанными на фонограмму, рассуждающими о том, почему в стране всегда идёт дождь… Некая несчастная метафора несчастной страны… Впрочем, был и «региональный компонент» в виде реплики: «Наша страна состоит из России, Сибири и Дальнего Востока» (в контексте спектакля это выглядит двусмысленно – не как местный патриотизм, но как местный сепаратизм).
Историко-культурная идентичность проявляется в рассмотренных спектаклях через апофатический приём: собственное прошлое познаётся через его отрицание. Определяя себя от обратного, художник отталкивается прежде всего от недавнего прошлого – советского периода истории, независимо от того, к какому драматургическому материалу он обращается (то есть опирается ли драма на сюжеты советского времени или, напротив, в основание спектакля положена классика).
Оба спектакля («Мещане» и «Элементарные частицы»), несмотря на разницу в их появлении на сцене почти в десять лет, типичны для современной репрезентации образа прошлого, представляющей прошлое как «межпоколенческую передачу информации» [8]. Они говорят о тех травмах, которым были подвержены предыдущие поколения, но их не интересует глубокое погружение в личную память тех, о ком они говорят: их намерение «помнить» при этом очень выборочно и отражает собственно современное задание, которое можно было бы назвать отрицательной идентичностью . И такой подход (понимаемый как «европейский мейнстрим») стал возможен и распространён именно потому, что театральных режиссёров освободили от глубины памяти (и её объёма) всё те же новые технологии в подходе к истории, которые принято называть практиками публичной истории.
Репрезентации прошлого в современном театре первой четверти XXI века – прошлого, предъявленного через систему образов, театральных приёмов и смысловых акцентов, – позволяет нам утверждать, что именно травматический опыт советского периода истории повлиял на понимание историко-культурной идентичности как идентичности негативной (отрицательной).