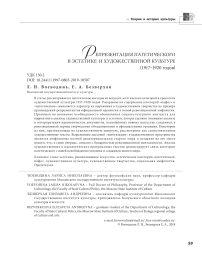Репрезентация патетического в эстетике и художественной культуре (1917-1920 гг.)
Автор: Воеводина Лариса Николаевна, Безверхая Елизавета Андреевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (91), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается патетическое как одна из ведущих эстетических категорий в хронотопе художественной культуры 1917-1920 годов. Раскрывается содержание категорий «пафос» и «патетическое», выявляется характер их выражения в художественном творчестве на примере произведений-репрезентантов официальной идеологии и новой революционной мифологии. Принимая во внимание необходимость обозначения социокультурного контекста для корректного анализа художественной культуры и эстетики, авторы уделяют внимание анализу и интерпретации идеологических документов, посвящённых новому искусству, созданных в революционный период творческими объединениями и официальными органами. Некоторые из них, претендующие на художественную ценность, рассмотрены как самостоятельные художественные тексты. Выражением массовой «патетизации» художественного пространства является мифологема полной дематериализации старого мира и создание на его месте нового, что, в свою очередь, связано с бинарностью революционной ментальности. Анализ художественных и идеологических программных текстов демонстрирует связь категории патетического с идеей освобождения человека и созданием нового мира.
Эстетика, революционное искусство, эстетические категории, патетическое, пафос, художественная культура, художественное творчество, социальная мифология, пролеткульт
Короткий адрес: https://sciup.org/144161320
IDR: 144161320 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10707
Текст научной статьи Репрезентация патетического в эстетике и художественной культуре (1917-1920 гг.)
На фоне повышения общественного и научного интереса к советской истории революционного и послереволюционного периода (1917–1920 годы) внимание современных исследователей обращено на выявление особенностей художественной жизни, эстетических и социальных установок данного времени. Революционное художественное наследие во всём многообразии является феноменом в высшей степени ярким, многообразным и противоречивым. Одной из ведущих категорий, отражающих специфику искусства данного периода, на наш взгляд, является «патетическое», по-новому проявившееся в эстетике и искусстве того времени.
В период становления молодого советского государства художественная культура представляла собой совокупность самых разных направлений и течений: одновременно творили Ал. Александров, И. О. Ду- наевский, К. С. Малевич, В. В. Маяковский, Д. Д. Шостакович, С. М. Эйзенштейн – кто-то из них только начал свой путь, а кто-то уже был признанным мастером. Аналогичную пестроту можно было наблюдать в эстетике и искусствознании: Б. В. Асафьев анализировал музыкальную форму как процесс интонирования, М. М. Бахтин работал над теорией содержания и формы в литературном творчестве, А. В. Луначарский выпустил в свет труд «Основы позитивной эстетики», всевозможные творческие объединения публиковали манифесты, декларации и резолюции, посвящённые новому искусству.
И тем не менее существовало нечто общее, что отличало художественное пространство 1917–1920 годов и выражало дух времени: так, во многих произведениях искусства можно выделить объединяющую их категорию – это патетическое как выражение революционного пафоса. Мы рас- смотрим данную категорию в её историческом становлении на примере произведений данной эпохи; кроме того, для создания наиболее ясной картины обратимся также к идеологическим документам, отражавшим ситуацию в официальной культуре того времени.
Категория «патетическое» образована от древнегреческого слова «пафос», которое означает «страсть», «страдание»: «страсть, возжигаемая в душе человека идею и всегда стремящаяся к идее... В философии идея является бесплотною; через пафос она превращается в дело, в действительный факт, в живое созидание» [1, с. 378]. Известный философ и эстетик А. Ф. Лосев в работе «О мифически-трагическом мировоззрении Аристотеля» практически отождествляет пафос и патетическое, уточняя, что пафос, собственно, есть патетический момент [9, с. 737].
Следует заметить, что «патетизация» художественного пространства революционного периода связана, отчасти, с тем, что немало представителей художественной интеллигенции находилось под романтическим впечатлением от революции, ещё не успев разочароваться в ней. Кроме того, ряд художников, воспринявших революцию далеко не восторженно, транслировали аналогичный посыл, но воплощали, по сути дела, ту же категорию в произведениях антисоветской направленности. Патетическое также разрабатывалось имплицитно в идеологических документах, призванных отразить «официальную» новую эстетику. Прецедентным текстом, в котором были изложены догмы пролетарской культуры, являлась статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» [8], напечатанная в газете «Новая жизнь» в 1905 году. Литература стала первым инструментом агитации и организации масс, исполь- зуемым большевиками ещё до революции, однако данная практика быстро распространилась и на другие виды художественного творчества. Даная статья являлась ярко выраженным репрезентантом революционно-патетического отношения к культуре, продемонстрировала мифологичность российско-советского общественного сознания: текст построен на бинарных оппозициях «партийный – беспартийный», «общественный – индивидуальный», «революция – царизм», «пролетарский – буржуазный», которые в недалёком будущем станут выполнять функции культурных субкодов-мифологем. Сухой научный стиль чередуется с насыщенными метафорами, патетическими восклицаниями. Ленин утверждал, что задача свободного художника, истинного творца, осознанно встать на классовые позиции, потому как беспартийной литературы (а читай, и беспартийного искусства вообще) быть не может.
Ю. М. Лотман в своей работе «Механизм смуты» пишет, что бинарная структура (а именно – бинарность) характерна для революционной идеологии, «органически связана с представлением о взрыве» [10, с. 39]. Перемена в подобной системе может реализоваться в двух проявлениях: «во-первых, в стремлении отказа от перемены вообще и установки на максимальную незыблемость сложившейся структуры, во-вторых, в стремлении к полному апокалипсическому уничтожению существующего и созданию на его месте столь же апокалипсического идеального строя» [10, с. 34–35].
Совокупность идей радикального обновления-обнуления и создания Рая на Земле и является своего рода генератором патетического в художественном творчестве, раскрывающем соответствующие образы. На этом примере мы можем проследить, как мифологические конструкции «начина- ют оказывать обратное воздействие на социальную реальность» [3, с. 53].
В послереволюционные годы формировались новые аксиологические и эстетические ценности и нормы, которые необходимо было распространять среди масс. Возможно, именно поэтому одной из мейнстримных форм передачи сообщений реципиенту от власти или художественных объединений стал манифест [12]. Именно в такую форму облекает партия один из пер- вых документов, предназначенных народу, – принятый на VI съезде РСДРП(б) «апокалиптический манифест», как называет его исследователь М. Г. Раку [16]. В послании, вызывающим интерес в качестве художественного текста, даётся краткая история пятимесячной революционной борьбы с февраля по июль 1917 года. Описания махинаций представителей буржуазии и героизма пролетариата представляют собой живое воплощение патетического. В основе структуры текста лежат бинарные оппозиции «царь – революция», «социализм – империализм», «пролетариат – буржуазия» и т.п., мифологемы-метафоры «кровавый царь», «пожар мирового восстания»,
«задушить русскую революцию», «грязные тайные договоры», которые одновременно являются коннотацией образа враждебного капиталистического строя [6, с. 390].
Одним из проявлений революционного пафоса стала повсеместная массовиза-ция всех сфер культурной жизни. Сразу же после Февральской революции 1917 года образовались так называемые культурно-просветительские организации пролетариата (Пролеткульты), имевшие своей целью объединение представителей рабочего класса, желавших заниматься творческой деятельностью. Пролеткульты ставили перед собой задачи «дать рабочему классу целостное воспитание, непреложно направляющее коллективную волю и мышление» [15], способствовать «выработке самостоятельной духовной культуры» [15]. В сентябре 1917 года состоялась первая конференция данных организаций, объединившая их во Всероссийский Пролеткульт.
На конференции А. А. Богданов предложил резолюцию «Пролетариат и искусство», в которой уделил, в частности, внимание степени воздействия искусства на реципиента, отметив, что это «самое могуществен- ное орудие организации коллективных сил», так как оно «организует посредством живых образов социальный опыт... в сфере познания» и «в сфере чувства и стремлений» [14, с. 262]. Таким образом, документ официально закрепил концепцию развития культуры, в её рамках акцентируется ангажированность искусства. Пролеткульт осознавал также ценность классического наследия и необходимость обращения к нему в свете новой социалистической концепции: «Сокровища старого искусства пролетариат должен брать в своём критическом освещении, в своём новом истолковании, раскрывающем их скрытые основы и их организационный смысл» [14, с. 262]. При этом новаторство в творчестве также весьма приветствовалось: «Мы не хотим быть пророками, но, во всяком случае, с пролетарским искусством мы должны связать ошеломляющую революцию художественных приёмов» [5, с. 266].
В статье «Пути пролетарского творчества» двумя годами позже Богданов пишет о социальной природе труда и творчества»: «Человеческий труд, всегда опираясь на коллективный опыт и пользуясь коллективно выработанными средствами, в этом смысле всегда коллективен… Таково же и творчество» [2, с. 267]. Исходя из приведённых постулатов, Богданов делает вывод о необходимости «монистичности и осознанного коллективизма» в художественном творчестве и «прямого сотрудничества в нём многих, вплоть до массового» [2, с. 269].
Показательно также обращение Международного Бюро Пролеткульта к рабочим всех стран, принятое во время второго Конгресса III Интернационала. Помимо сухих сводок, в нём отмечено, что «формируется новый фронт борьбы» пролетариата – революционно-культурно-творческий. Однако нам здесь важны не столько отдельные тезисы, сколько основная идея обращения – призыв к объединению всего мирового пролетариата в культурно-творческой деятельности как ещё один момент пафоса увеличения масштаба «официальной» культурной надстройки над обществом.
Исследователи, изучающие механизмы развития живописи и архитектуры послереволюционного периода, также отмечают общие тенденции к приобщению широких народных масс к искусству. В частности, искусствовед В. П. Лапшин упоминает о сообщении Отдела искусств Комиссариата народного просвещения «об устройстве выставки проектов революционных знамён, плакатов, карикатур, иллюстраций и украшений для социалистических изданий, декораций для народных торжеств» [7, с. 262]. В конце ноября – начале декабря участники выставки «Бубновый валет» провели диспут «Заборная живопись и литература», под впечатлением от которого В. Каменский написал «декрет о заборной литературе, о росписи улиц, о балконах с музыкой, о карнавалах искусств» [7, с. 262].
Декрет написан в форме футуристического стихотворения. Внимание привлекает уже то, как автор обращается к потенциальному адресанту: «А ну-ко, робята» – это не просто эрратив, используемый автором для подражания рабоче-крестьянской речи, это структурная единица, символизирующая
«пролетаризацию» художественного творчества. Данный текст – яркая демонстрация феномена плотности информации в поэзии: в субтексте «Раздавайте ноты – законы», по сути, декларируется то, что спустя пару лет будет подробно расписываться в идеологических платформах музыкально-общественных организаций и постановлениях партии относительно культуры и искусства.
В основе стихотворения лежит мифологема «социалистическая революция – революция духа». Помимо того, что советская мифологема создания нового человека – гражданина идеального государства – сама по себе патетична, интересующая нас категория воплощается в плавающем размере стихотворения, вызывающем у реципиента захватывающее дух волнение. Однако здесь пафос особый, не «страдающий» и не «вымученный», а скорее, «восторженный». Это, в частности, ярко проявляется в использовании дуалистичного символа «кумачовые» – красный цвет неизбежно ассоциируется с коммунизмом, но не стоит забывать и о его более древней сигнификации – праздничности. Кроме того, в тексте вновь звучит призыв к переходу к более массовым формам художественного творчества: от «станковой» живописи к плакатам и графике, от салонных концертов к оформлению демонстраций и шествий.
Применительно к советской музыке, одним из наиболее показательных документов стала декларация музыкального отдела Комиссариата народного просвещения (МУЗО), выпущенная в 1919 году. В документе, пожалуй, впервые появляются предпосылки бинарной оппозиции «реализм – формализм», которая всего через какие-то пятнадцать-двадцать лет станет катализатором «попадания в опалу» многих деятелей искусства: «Для тех, кто не воспринимает первичных начал музыки, которые красно выявлены в говоре живой народной песни, музыка не существует, даже если они принимают её в формально-схематическом состоянии – результате длительного опыта профессионально-музыкальной специализации» [14].
В своей декларации МУЗО объявил музыку «свободной» от всех прежних правил как от музыкальной схоластики. Философ-эстетик А. Г. Ганжа замечает: «Получается, что живая музыка – стихия народной песни – может быть воплощена в творчестве масс только путём разрыва с музыкой мёртвой – со всеми существующими музыкальными практиками и институтами» [4, с. 12]. Здесь опять проявляется бинарность советского сознания, а также мифологема тотального «обнуления» и «освобождения», присущая авангарду начала XX века.
Перу комиссара МУЗО А. С. Лурье принадлежит музыкальное произведение «Наш марш» [11], написанный в 1918 году на стихи В. В. Маяковского. Его можно назвать «переходным звеном» между творчеством авангардистов и советским искусством. Несмотря на то, что в названии присутствует понятийный знак – слово «Марш» – и реципиент априори готовится услышать образец данного жанра, на деле типично маршевых средств выразительности в произведении немного. Вокальная мелодия – «рельеф» любого сочинения для голоса с сопровождением – практически полностью редуцирована, от неё осталась лишь декламация. Данное произведение пронизано патетикой. С первых же звуков в аккомпанементе используется имитация колокольного набата. Можно предположить, что Лурье намеренно начал свой «музыкальный плакат» с передачи реципиенту ощущения первобытной пустоты, полного освобождения, «чистого листа», готового к записи событий коммунистической истории. Развитие патетического реа- лизуется, в том числе, через пятикратное «повышение строя» (модуляции), способствующее нарастанию напряжения в интонациях, через изменение фактуры музыкального материала – по мере развития она становится то насыщенной мелкими длительностями (как будто к звучанию большого колокола добавилось звучание маленьких колокольчиков), то более распевной, эпичной, как народная мелодия. В нотах на том месте, где обычно пишется итальянское обозначение темпа, мы видим надпись «солнечно» – ещё один символ, который может обозначить радость от произошедших перемен. Кроме того, партия фортепиано в издании 1918 года записана на трёх(!) строчках (видимо, по причине очень широкого диапазона партии левой руки), в чём также может быть заложено стремление автора к масштабному в искусстве.
Так как в поэтическом тексте чередуются четырёхдольный и трёхдольный размеры, то меняется и метроритмическая пульсация музыки, что усиливает ощущение напряжения. В первой строфе Маяковский вводит тематику всемирного потопа, который, во-первых, символизирует всеобщее обновление и начало всякой деятельности «с нуля», а во-вторых, отсылает к идее мировой революции, к которой должен «приложить руку» народ. Поэт осознаёт себя и других граждан составляющими единого советского механизма-оркестра. В тексте прослеживается пафос, свойственный мифологическому бинарному мышлению, мифологема Рая на Земле.
Проанализировав ряд художественных текстов и работ по эстетики, можно сделать вывод, что советская художественная культура 1917–1920 годов, несмотря на плюрализм направлений, проникнута единым революционным пафосом, выраженным с помощью специфических выразительно- изобразительных средств и способов. Свод тезисов, излагаемых в документах и идеологических платформах того времени, подтверждает необходимость вовлечения в анализ художественного пространства такой убедительной эстетической категории, как патетическое. Опираясь на проведённое исследование социокультурного контекста, можно сделать вывод, что вышеупомянутая категория является одной из наиболее значимых для нашего эстетического восприятия искусства революционного периода. Заложенные в общественном сознании взгля- ды мифологического, утопического характера, бинарность ценностей обусловливают эффективность воздействия революционного пафоса на реципиента, патетическое становится неизбежным атрибутом отечественной эстетики в переломные моменты нашей истории. Таким образом, патетическое выражает непосредственно революционный пафос и является одной из центральных эстетических категорий применительно к советской художественной культуре 1917–1920 годов, содержательно наполненной пафосом разрушения-созидания.
Список литературы Репрезентация патетического в эстетике и художественной культуре (1917-1920 гг.)
- Белинский В. Г.Собрание сочинений: в трёх томах / под общей редакцией Ф. М. Головченко. Москва: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948. Том III. С. 376-423.
- Богданов А. А. Пути пролетарского творчества // Литературные манифесты: от символизма до "Октября" / сост. Н. Л. Бродский и Н. П. Сидоров. Москва: Новая Москва, 1924. С. 267-271.
- Воеводина Л. Н. Мифология как часть символического универсума // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 5 (61). С. 51-57.
- Ганжа А. Г. Советская музыка как объект сталинской культурной политики: музыкально-этический универсализм и парадоксы следования норме // Философско-литературный журнал "Логос". 2014. № 2 (98). С. 123-155.
- Гастев А. К. Контуры пролетарской культуры // Литературные манифесты: от символизма до "Октября" / сост. Н. Л. Бродский и Н. П. Сидоров. Москва: Новая Москва, 1924. С. 263-267.