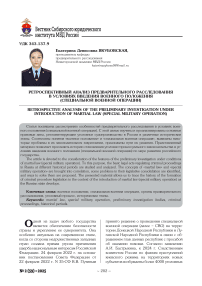Ретроспективный анализ предварительного расследования в условиях введения военного положения (специальной военной операции)
Автор: Якубовская Е.Д.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 2 (59), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению особенностей предварительного расследования в условиях военного положения (специальной военной операции). С этой целью изучены и проанализированы основные правовые акты, регламентирующие уголовное судопроизводство в России в различные исторические этапы. Соотнесены понятия «военное положение» и «специальная военная операция», выявлены некоторые проблемы в их законодательном закреплении, предложены пути их решения. Представленный материал позволяет проследить историю становления уголовно-процессуального законодательства в условиях введения военного положения (специальной военной операции) по мере развития российского государства.
Военное положение, специальная военная операция, органы предварительного расследования, уголовный процесс, исторические этапы
Короткий адрес: https://sciup.org/140310220
IDR: 140310220 | УДК: 343.137.9
Текст научной статьи Ретроспективный анализ предварительного расследования в условиях введения военного положения (специальной военной операции)
Одной из задач любого государства является обеспечение безопасности страны и укрепление ее суверенитета. Она особенно актуальна на современном этапе, когда со стороны недружественных западных стран создана прямая угроза причинения ущерба национальным интересам Российской Федерации. 24 февраля 2022 г. на основании постановления Совета Федерации от 22 февраля 2022 г. N 35-СФ В.В. Путиным принято решение о проведении специальной военной операции (далее – СВО) на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в связи с обращением глав данных республик с просьбой об оказании помощи. Согласно заявлению А.И. Бастрыкина, к 2024 г. Следственным комитетом России по фактам преступлений киевского режима на территориях новых субъектов возбуждены более 4000 уголовных дел, что свидетельствует о продолжающейся эскалации в отношении мирного населения1. В данном контексте качественное, своевременное и объективное расследование преступлений органами следствия и дознания является основной целью, в том числе и для Министерства внутренних дел России.
Уголовно-процессуальное законодательство в определенной степени регулирует не только права и обязанности его участников, но и иные сферы права. Как справедливо отмечал Н.И. Ланге, «изучение уголовного судопроизводства в связи с историей современного ему права пригодно не для удовлетворения только праздного любопытства поклонников старины, но не бесполезно и для людей, облеченных властью, как одно из средств к познанию ими в постепенном национальном развитии того общества, среди которого им приходится действовать» [4, с. 11] Безусловно, роль накопленного опыта развития уголовно-процессуального законодательства очевидна и не оспариваема. Оторванность нововведений от исторического контекста чревата нарушением эффективности предварительного расследования, что может повлечь за собой нарушение конституционных прав и свобод граждан.
В выступлении на расширенном заседании коллегии МВД России 5 марта 2025 г. В.А. Колокольцев отметил, что в 2024 г. сотрудниками органов внутренних дел сопровождалось принятие порядка двухсот законов, и в числе приоритетов – нормативная база, связанная с проведением СВО2. Начиная исторический анализ основных положений уголовно-процессуального законодательства в данной сфере, необходимо сразу разграничить понятия «военное положение» и «специальная военная операция». Данные термины в определенной степени можно соотнести между собой как часть и целое. Правовой основой введения военного положения в Российской Федерации является Федеральный конституционный закон от 30
января 2002 г. N 1-ФКЗ «О военном положении», который определяет его как особый правовой режим, который может вводиться как на всей территории России, так и в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом Российской Федерации в случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии, при этом военное положение на территории страны может быть введено в том числе без объявления войны со стороны одного или нескольких иностранных государств. В настоящее время Указом Президента РФ военное положение фактически введено на территории 4 субъектов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, в остальных регионах введены различные уровни (режимы) реагирования.
Термин «специальная военная операция» в России официально не закреплен. Министерство обороны Российской Федерации трактует его как совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени специальных действий войск (сил), проводимых по единому замыслу и плану для достижения определенных целей [7, с. 13]. Следует согласиться с мнением В.А. Винокурова о том, что понятие «специальная военная операция» является лишь названием действий, осуществляемых Российской Федерацией в условиях правового режима военного положения. Данный вывод подтверждается решением главы государства, который 20 октября 2022 г. официально установил на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей максимальный уровень (режим) реагирования [2, с. 205]. Таким образом, военное положение подразумевает проведение различных специальных действий, равно как и СВО, но при этом его введение определяется Указом Президента РФ, имеет несколько уровней (режимов) реагирования, в зависимости от которых применяется определенный порядок действий как вооруженных сил, так и гражданского населения. Такая точка зрения находит подтверждение и в работах других исследователей. В.И. Литвиненко отмечает, что «СВО … носит отдельные черты и особенности военного конфликта» [6, с. 16]. Ввиду особой политико-правовой значимости, обусловленной в том числе принятием решения о проведении СВО и созданием абсолютной новой нормативной правовой базы, ретроспективный анализ предварительного расследования в условиях введения военного положения (СВО) приобретает особую актуальность и привлекает пристальное внимание научных исследователей и представителей-практиков. Исторический экскурс позволит проследить взаимосвязь интересующих нас положений и выявить общие тенденции формирования особенностей предварительного расследования в уголовном процессе России в условиях введения военного положения (СВО).
Учитывая, что объем уголовно-процессуального законодательства от момента зарождения до современного этапа достаточно значителен и не все правовые нормы отражают предмет исследования, ограничимся следующей периодизацией истории предварительного расследования, связанной с кардинальными изменениями уголовно-процессуального законодательства: от судебной реформы второй половины XIX в. до 1917 года; от становления советского уголовного процесса до судебной реформы конца XX – начала XXI вв.; от принятия УПК РФ по настоящее время.
Предпосылкой создания органов предварительного расследования являлась деятельность полиции до 1860 года. В указанный период постепенное развитие досудебной стадии процесса повлекло разграничение следствия на виды: предварительное и формальное (ст. 34 и 139 Законов уголовного судопроизводства). И если первое было направлено на установление события преступления, то второе – на выяснение виновности определенного лица в уже установленном преступлении. [8, с. 36.] Благодаря судебной реформе Александра II и созданию Устава уголовного судопроизводства (далее – УУС) в 1864 г. произошло разделение следствия на предварительное и судебное, а также введен институт суда присяжных, что обеспечивало принцип состязательности уголовного процесса и позволяло избежать ошибок при проведении расследования, в том числе и при введении военного положения1. Стоит отметить, что на тот момент не существовало понятия «специальная военная операция», фактически особый правовой режим вводился соответствующим указом главы государства, что имеет общие черты с современными реалиями. Однако ряд норм УУС определял некоторые особенности проведения предварительного расследования в отношении лиц, находящихся на воинской службе. Например, глава третья «О подсудности по принадлежности обвиняемых к особым ведомствам» гласила о необходимости проведения военного суда в отношении данных категорий лиц, за исключением случаев совершения преступления ими во время состояния в бессрочном отпуске или же по запасным войскам или в резервном флоте и вообще не на действительной службе (ст. 221 УУС). Кроме того, «нашествие неприятеля» являлось законной причиной для неявки к судебному следователю (п. 2 ст. 388 УУС).
Впервые правовые нормы, определявшие содержание режима военного положения, в России были закреплены в принятых 18 июня 1892 г. Правилах о местностях, объявляемых состоящими на военном положении. Согласно данному документу генерал-губернатор был наделен полномочиями обращать к административному разрешению дела о менее важных преступлениях и проступках, исключать из общей подсудности всякого рода уголовные дела с передачей их в военные суды для осуждения виновных по законам военного времени2.
24 ноября 1917 г. Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР «О суде»1 были упразднены существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора, а равно и институты присяжной и частной адвокатуры, и их функции частично возложены на местных судей. О значении его В.И. Ленин говорил на III Всероссийском съезде Советов: «Пусть кричат, что мы, не реформируя старый суд, сразу отдали его на слом. Мы расчистили этим дорогу для настоящего народного суда и не столько силой репрессии, сколько примером масс, авторитетом трудящихся, без формальностей, из суда, как орудия эксплуатации, сделали орудие воспитания на прочных основах социалистического общества». [5, с. 421] В развитие Декрета «О суде» в феврале и июле 1918 г. были опубликованы декреты N 2 и N 3, в которых была определена компетенция окружных и народных судов, установлен порядок подачи и рассмотрения кассационных жалоб на решения судов, порядок судопроизводства и прочее2. При этом положения УУС 1864 г. также применялись в том случае, если они не противоречили правосознанию трудящихся классов и не были отменены специальными декретами. Окончательный запрет на применение судами «старых» норм последовал только 30 ноября 1918 г., когда ВЦИК было утверждено Положение о народном суде3, в примечании к ст. 22 которого прямо содержался запрет на ссылки в решениях и приговорах на «законы свергнутых правительств».
Первым кодифицированным источником уголовно-процессуального права является советский Уголовно-процессуальный кодекс 1922 г. Как справедливо отмечал А.Я. Вышинский, к этому времени экстренно введенные, явно не рассчитанные на продолжительный период действия, неоднократно меняемые и корректируемые «декретные» правила уголовного и квазиуголовного судопроизводства стали представляться уже не соответствующими реальным потребностям начинающего оправляться от социально-политических и экономических потрясений советского общества [3, с. 49]. Статья 435 УПК РСФСР закрепила право революционных трибуналов в случаях вынесения приговора в местностях, отнесенных к военному положению, к высшей мере наказания (расстрел) входить в течение 24 часов после вынесения приговора при подаче осужденным кассационной жалобы с представлением о непропуске таковой и обращению приговора к немедленному исполнению4. Указанная редакция нормы излишне бюрократизировала уголовный процесс, приводя к увеличению нагрузки на судей и снижению качестве рассмотрения соответствующих дел, при этом не давала четких базовых понятий, необходимых правоприменителю.
Начало Великой отечественной войны послужило поводом к устранению пробелов в законодательстве о введении военного положения на территории государства. Так, впервые военное положение на территории СССР было введено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г., при этом указанный термин не был закреплен в Конституциях СССР 1924 г. и 1936 г. и каких-либо иных нормативных правовых актах. Согласно документу военное положение объявлялось в отдельных местностях или по всему СССР в интересах обороны СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности5. Указом определялись и виды преступлений, передающихся на рассмотрение военных трибуналов, например, уголовные дела об умышленных убийствах, разбое, спекуляции, злостном хулиганстве, о преступлениях, совершенных военнослужащими, и другие.
Одновременно с введением военного положения Президиум Верховного Совета СССР утвердил Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий. В этот период была перестроена роль органов милиции и следствия, прокуратуры и суда, которая включала возможность производства дознания органами милиции и другими подразделениями Народного комиссариата внутренних дел СССР (далее – НКВД СССР), следствия – военными следователями военной прокуратуры и войск НКВД, военными следователями Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР (далее – НКО СССР), следователями Прокуратуры СССР и прокуратур союзных и автономных республик, краев, областей и районов, а рассмотрение уголовных дел Верховным Судом СССР, верховными судами союзных и автономных республик, краевыми и областными судами, районными судами, а в армии и на флоте – военными трибуналами.
Данный исторический период отличается упрощением уголовного судопроизводства: расширялись полномочия органов предварительного расследования (в том числе военного командования), сроки предварительного расследования сокращены, отменялось обязательное получение санкции прокурора на возбуждение уголовного дела. Процессуальная самостоятельность следствия и дознания сказалась и на качестве предварительного расследования. Приказом НКО СССР от 12 ноября 1942 г. в армии и флоте военному командованию предоставлено право проводить предварительное расследование в форме дознания, в том числе направлять материалы уголовного дела военному прокурору для дальнейшей передачи в суд1. При этом ранее органы дознания направляли матери- алы уголовного дела военному следователю, не предъявляя обвинения и не составляя обвинительное заключение, то есть осуществляли расследование в первичной форме, не выполняя основные «объемные» документы. Военные дознаватели назначились из числа офицеров Красной Армии, при этом они не были в достаточной степени подготовлены к проведению предварительного расследования в полном объеме, что сказалось и на качестве предварительного расследования.
Приказом Прокурора СССР от 28 января 1942 г. были сокращены сроки производства предварительного расследования: установлен 15-дневный срок вместо общепринятых 2 месяцев2. 17 мая 1944 г. Прокурор СССР приказом N 121 оставил сокращенные сроки расследования, несколько дифференцировав их по следующим категориям дел: а) 15 дней – о хищениях и растратах в торговых организациях, колхозах и совхозах, о разбазаривании продовольственных и промышленных товаров, злоупотреблениях с карточками, обвешивании и обмеривании потребителей, о спекуляции; б) 10 дней – о самовольном разбазаривании материальных ценностей из государственных резервов; в) 7 дней – о должностных преступлениях, совершенных работниками сельского актива и связанных с проведением хозяйственно-политических кампаний, и о нарушении прав семей военнослужащих; г) 10 дней – о преступлениях несовершеннолетних; д) 5 дней – об уклонении от призыва в армию и выполнения трудовых повинностей3.
Передача уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением предполагала обязательное рассмотрение дела в подготовительном заседании суда, в ходе которого народный суд мог возвратить уголовное дело прокурору для проведения дополнительного расследования либо прекратить производство при наличии к тому оснований. Приказом Народного комиссариата юстиции
СССР от 29 июня 1941 г. «О перестройке работы судебных органов и органов юстиции на военный лад» данный порядок был изменен в сторону упрощения, и дела, по которым производство предварительного следствия не обязательно, не подлежали внесению в подготовительное заседание1. Практически через полгода приказом Прокурора СССР от 28 января 1942 г.2 по таким делам также была установлена необязательность производства предварительного следствия, а обвинительное заключение не составлялось – дела сразу после возбуждения уголовного делопроизводства и собирания необходимых документов передавались в суд.
Вступление в законную силу в 1961 г. нового УПК РСФСР повлекло установление единой процессуальной формы расследования (предварительное следствие и дознание), выделение в качестве основных участников уголовного судопроизводства потерпевшего и подозреваемого, наделение последних соответствующими правами и обязанностя-ми3. Однако документ коренным образом не менял устоявшийся порядок производства предварительного расследования в случае введения военного положения.
Прекращение существования СССР и глобальная перестройка государственного устройства в 1990-х гг. способствовала внесению изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство. Так, была подготовлена Концепция судебной реформы в Российской Федерации, утвержденная 24 октября 1991 г. постановлением Верховного Совета РСФСР4, а в 2001 г. был принят УПК РФ. По мнению С.Б. Россинско-го, в связи с принятием УПК РФ зародилась весьма негативная тенденция, направленная на гиперформализацию уголовно-процессуального права, выражающаяся в стремлении «узаконить» (в узком смысле) гораздо более широкий круг применяемых в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства правил поведения, чем этого требует здравый смысл, и постепенно превращающая уголовно-процессуальный закон в пошаговую инструкцию, в «памятку» для безграмотных правоприменителей [9, с. 236]. С указанной точкой зрения нельзя не согласиться, так как стремление охватить весь спектр уголовно-процессуальных отношений «отягощает» кодекс, и для дополнительных разъяснений следует рассматривать отражение правовых коллизий в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации либо специальных правовых нормах.
В настоящее время вопросы введения военного положения в Российской Федерации регламентированы специальным Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ «О военном положении», определяющим понятие военного положения, его правовую основу, порядок его введения, уровни (режимы) реагирования и их обеспечение, полномочия органов государственной власти в области обеспечения режима и особенности их функционирования, а также правовое положение граждан и организаций в период действия военного положения. Как справедливо отмечает С.К. Агарзаев, темпы развития и видоизменения общественных отношений достигли оборотов, превышающих научно-исследовательские и теоретико-правовые возможности их осмысления и выработки ответных мер реагирования. В этой связи правовое регулирование осуществляется de facto сложившихся общественных отношений [2, с. 248]. Уточним: речь идет о развитии законодательства о военном положении в соответствии с современными реалиями, отвечающего требованиям объективной действительности. Разработка конкретных правовых положений является следствием проблемы, возникшей у правоприменителя, и направлена на решение возникших коллизий и пробелов законодательства.
Впервые в июне 2023 г. законодателем была предпринята попытка урегулировать правовые пробелы, связанные с предварительным расследованием и судебной стадией уголовного судопроизводства в период проведения СВО – принят Федеральный закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО»1. Его основные положения можно охарактеризовать следующим образом.
Определен перечень субъектов, в отношении которых распространяется действие закона. Интересно, что в него вошли лица, в отношении которых осуществляется предварительное расследование по преступлениям небольшой и средней тяжести; лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время; а также лица, уже имеющие судимость, т.е. в отношении которых приговор вступил в законную силу. Исключение составляли подозреваемые, обвиняемые и осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также связанные с терроризмом и экстремизмом. Фактически у подсудимых лиц и лиц, в отношении которых был вынесен обвинительный приговор, но он не вступил в законную силу, отсутствовала формальная возможность освобождения от уголовной ответственности и наказания в связи с участием в СВО. Кроме того, не были внесены изменения в УК РФ и УПК РФ, касающиеся основания для освобождения от уголовной ответственности и назначенного судом наказания, порядка приостановления и возобновления предварительного расследования с лицами, заключившими контракт о прохождении военной службы.
Освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости возможно в связи с получением госнаграды либо в связи с увольнением со службы по достижении пре- дельного возраста пребывания на ней, по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации, отменой военного положения и (или) истечением военного времени. Согласно указанной информации в случае отсутствия данных условий в отношении подозреваемого (обвиняемого) либо осужденного возобновляется производство предварительного расследования. Однако законодателем не был предусмотрен порядок взаимодействия воинских формирований с органами предварительного расследования и судом по вопросам заключения контракта о прохождении военной службы и приостановления уголовного преследования.
Первая проблема была решена введением Федерального закона от 2 октября 2024 г. N 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 78.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», согласно которому у подсудимых и лиц, в отношении которых был вынесен обвинительный приговор, но он не вступил в законную силу, появилась формальная возможность заключения контракта о прохождении воинской службы, а следовательно, приостановления производства по уголовному делу и дальнейшего освобождения от уголовной ответственности и наказания. Кроме того, внесены изменения в ст. 110 УПК РФ, регламентирующие порядок отмены ранее избранной меры пресечения в случае приостановления уголовного преследования в отношении лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы.
Вторая проблема была решена введением Федерального закона от 23 марта 2024 г. N 64-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым урегулирован порядок прекращения уголовного преследования в связи с мобилизацией, в военное время и при заключении контракта, окончательно определен перечень преступлений, совершение которых исключает возможность освобождения от ответственности.
Остается открытым вопрос обеспечения законных прав и интересов потерпевших в связи с приостановлением уголовных дел по основанию, предусмотренному п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В настоящее время в случае заключения контракта о прохождении военной службы не требуется полное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением. Кроме того, отмена ранее избранной меры пресечения по ходатайству командования воинской части, в частности связанной с лишением свободы (заключение под стражу, домашний арест), зачастую выступает мотивацией для заключения контракта о прохождении воинской службы, однако фактически лицо преследует цель скрыться от органов предварительного следствия и суда. Так, в Нижегородской области подсудимый, в отношении которого судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, нарушив условия, заключил в другом регионе контракт о прохождении военной службы, не уведомив воинскую часть о наличии у него соответствующего ста-туса1. Сторона защиты указала, что побега подсудимый не совершал, и судебное решение о его розыске неправомерно, так как его местоположение было известно, и он руководствовался интересами государства.
Таким образом, проведенный ретроспективный анализ позволяет сформулировать вывод, что развитие уголовно-процессуального законодательства в условиях введения военного положения (специальной военной операции) происходило последовательно с учетом геополитических глобальных конфликтов. Впервые особенности предварительного расследования в условиях введения военного положения (СВО) были закреплены в 1892 г. и нашли продолжение в редакциях УПК РСФСР, Указах Президиума Верховного Совета СССР, приказах прокуратуры и иных ведомств. В настоящее время продолжается совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей особенности заявления ходатайств, задержания, избрания и отмены мер процессуального принуждения, предъявления обвинения по уголовным делам в отношении подозреваемых и обвиняемых, заключающих контракт о прохождении военной службы, а также аспекты приостановления предварительного расследования и прекращения уголовного преследования в отношении указанных лиц. Основными проблемами применения уголовно-процессуального законодательства являются обеспечение прав и законных интересов потерпевших, возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба и морального вреда, а также отсутствие четких правил соблюдения процедуры заключения контракта о прохождении воинской службы и приостановления предварительного расследования. Наиболее логичным видится создание межведомственного нормативного правового акта, регламентирующего единый порядок заключения контракта о прохождении воинской службы, процедуры приостановления уголовного преследования и дальнейшего освобождения от уголовной ответственности с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Справедливо отметить, что одним из условий заключения такого контракта должно стать полное либо частичное (более половины) возмещение вреда, причиненного потерпевшему преступлением.